Искусство 1-й половины XVIII века. Общая характеристика
Это новый период развития русской культуры: возникновение светского искусства благодаря реформам Петра Великого, перенимание западного опыта.
Процесс перенимания, освоения и переработки европейского опыта шел несколькими путями:
- приобретение заграницей готовых произведений
- привлечение иностранных специалистов для работы в России и для преподавания русским ученикам
- посылка русских студентов за государственный счет на обучение заграницу (пенсионеры)
Искусство этого периода, придя на смену средневековью, стало первым звеном в культуре нового времени — качественно иной. Этот перелом отражает общеевропейский процесс перехода от средневекового искусства к новому, однако специфика русского исторического развития такова, что здесь он произошел на 200—300 лет позднее Италии или Франции, и происходил под большим влиянием этих стран.
Это русское «ученичество» — творческий процесс формирования нового метода художественного творчества. Оно складывалось из:
- творческие поиски и сдвиги канона, произошедшие в древнерусском искусстве XVII века
- деятельность приглашенных европейских мастеров (россика)
- трактаты и увражи (гравированные чертежи), которые создавались в Европе со времен Ренессанса и закрепляли опыт искусства нового времени.
То, что Россия совершила этот переход так поздно, повлияло на ряд специфических особенностей её художественного развития. За полвека ему пришлось, ценой огромного напряжения, пройти путь, который другие страны проделали за два-три века. Эта скорость породила ряд сюрпризов, например, параллельное существование нескольких стилей, которые в Европе шли последовательно. Характерными для эпохи были необычные художественные ситуации — преждевременное появление элементов культуры, для восприятия которых ещё не было условий. С середины XVIII века, когда принципы нового искусства окончательно победили, и всюду распространилось барокко, течение русского искусства приобретает более обычный характер. Вслед за периодом развитого барокко (1740—1750-е годы) и кратким, слабо выраженным периодом рококо (рубеж 1750—1760-х годов), наступает классицизм, который будет господствовать до 1830-х.
«Первая четверть XVIII века сыграла особую роль в художественном развитии России. Искусство занимает принципиально новое место в жизни общества, оно становится светским и общегосударственным делом. Происходит распад старой системы художественной жизни и формирование нового единства. Этот путь отмечен существенными сдвигами, которые неизбежны при крутой ломке старого творческого метода. Зарождаются новые взаимоотношения между заказчиком и художником, причем осведомленность последнего о том, как должно выглядеть современное произведение, часто делает его роль определяющей. Новое искусство не всегда встречается доброжелательно и потому требует широкой государственной поддержки и разъяснения. Воспитательная функция искусства в прямом и более отвлеченно смысле этого слова чрезвычайно возрастает». Разрушается прежнее представление о красоте и воплощающих её формах. Поскольку «грамотность» воспринимается как априорный залог качества (порой ошибочно), появляются более новаторские по методу, но довольно слабые в художественном отношении работы иностранных художников.
Поскольку искусство ещё оставалось «неустановившимся», налицо большая разница в манерах, стилевых приемах и типологических схемах. В художественную практику потоком вливаются новые идеи и образы, жанры и сюжеты, иконографические образцы. Не существовало строгого отбора, которому подвергалось иностранное вмешательство, хотя его старались все-таки корректировать, исходя из внутренних потребностей страны и вкусов. В итоге случайное и преждевременное, не отвечавшее национальным потребностям отбрасывалось. «Этот нелегкий, но глубоко прогрессивный процесс выводил русское искусство на широкую дорогу общеевропейских мыслей и форм, нёс отказ от средневековой замкнутости, косности религиозного мировоззрения, был большим государственным делом. Средствами эпохи Просвещения, которой принадлежит XVIII столетие, русское искусство выполнило функцию, которую обычно берет на себя Возрождение».
Постепенно растет новое поколение русских художников-пенсионеров, которые в основном работают в Петербурге — связующем звене между Россией и Западом. Москва же выполняет роль такого звена между Петербургом и провинцией; московская школа складывается из старых мастеров и молодых художников, не прошедших ученичества нового типа. Она также идет по новому пути, но медленнее и с большим отпечатком традиционного метода. Провинция в 1-й четверти века испытывает весьма слабое влияние новшеств, часто продолжая древнерусские формы, тем более, что в регионы перебираются «старомодные» иконописцы из Москвы
Петровское время. Характеристика эпохи
Увеличение роли светской культуры в последней трети XVII века
Общеизвестны слова великого поэта, что Россия вошла в Европу, как спущенный корабль, при стуке топора и громе пушек. Но, конечно, входила она в европейское пространство значительно медленнее, чем это может показаться из приведенного художественного сравнения. Ведь тот не имеющий аналогов в прошлом пародов Запада крутой перелом, который произошел в жизни России при Петре I, подготавливался в течение предыдущего столетия и даже задолго до Петра. Исследователь в этой связи пишет: «XVII столетие, быть может, интереснейшее во всей русской истории, было эпохой великого перехода от старых форм жизни и быта к новым. Новая династия, новая Никонова церковность, новая схоластическая паука, новая литература с ее аллегорическим витийством и рифмованной поэзией, новые люди и новые моды, несомненно, вызвали небывалый подъем интереса к загадочному будущему. Приблизилось ли царство Антихриста, как утверждали раскольники, или недалеко что-то светлое, радостное, славное, что ждет святую Русь, только что поборовшую ужасы лихолетья?» (Первухин Н. Г. Церковь Иоанна Предтечи в Ярославле. М., 1913. С. 42).
Конечно, XVII в. был еще сам «средневековой Русью», но именно в этом столетии появились светская литература и даже литературные пародии на богослужение (вроде сатиры «Служение кабаку»), русифицировались переводы западноевропейских источников (в результате чего, правда, герцог Ореол в сказании о Бове, например, мог превратиться в посадника Орла). В библиотеке Никона рядом с богослужебными книгами стояли Аристотель и Вергилий, в Славяно-греко-латинской академии наряду с богословием преподавали светские дисциплины: риторику, грамматику, сочинение виршей, а в театре Готфрида, посещаемом царем Алексеем Михайловичем, ставили светские пьесы. Однако явственно ощутимые результаты всех этих изменений будет справедливо связывать с именем паря-реформатора и считать первые годы XVIII в. началом Нового времени. В. О. Ключевский удачно сравнил деятельность Петра I с «бурной весенней грозой, которая, ломая вековые деревья, освежает воздух и своим ливнем помогает всходам нового посева» (Ключевский В. О. Курс русской истории. М., 1910. Ч. IV. С. 293). Другой великий русский историк – С. М. Соловьев писал об ощущении в XVII в. необходимости движения по новой дороге: «Народ поднялся и собрался в дорогу; но кого-то ждали; ждали вождя, – вождь появился» (Соловьев С. М. Публичные чтения о Петре Великом. М., 1872. Чт. 3).
Масштаб этого явления трудно переоценить.
Петр I как реформатор
Естественно, общественные отношения не ломались, крепостное право не только не было уничтожено, но еще более укрепилось, тем не менее в преобразованиях была острейшая необходимость – и они начались. Именно при Петре I возникли новые отрасли производства, новые промышленные предприятия, расширилась внутренняя и внешняя торговля, были созданы регулярная армия и военно-морской флот. Петр ввел строжайшую централизацию в управление государством – абсолютистским, с неограниченной властью монарха. Ништадтский мир, заключенный 30 августа 1721 г., которым завершилась многолетняя Северная война, закрепил господство России на приневских и прибалтийских берегах. Россия, как сказал канцлер Г. И. Головкин в своей речи при заключении мира, вышла «на театр славы всего света» (Голиков И. И. Деяния Петра Великого, мудрого преобразователя России, собранные из достоверных источников и расположенные по годам. Т. 8. М., 1838. С. 8).
Воцарение Петра I означало, с одной стороны, окончание Средневековья, конец ведущей роли церкви в общественной жизни и господства «древнего благочестия», а с другой – утверждение истинного культа государственности и государственной власти: «Петр как исторический государственный деятель, – писал Н. И. Костомаров, – сохранил для нас в своей личности такую высоконравственную черту, которая невольно привлекает к нему сердца; эта черта – преданность той идее, которой он всецело посвятил свою душу в течение всей жизни. Он любил Россию, любил русский народ, любил его не в смысле массы современных и подвластных ему русских людей, а в смысле того идеала, до какого желал довести этот народ; и вот эта-то любовь составляет в нем то высокое качество, которое побуждает нас, мимо нашей собственной воли, любить его личность, оставляя в стороне и его кровавые расправы и весь его деморализующий деспотизм, отразившийся зловредным влиянием и на потомстве. За любовь Петра к идеалу русского народа русский человек будет любить Петра до тех пор, пока сам не утратит для себя народного идеала, и ради этой любви простит ему все, что тяжелым бременем легло на его память» (Костомаров Н. И. Русская история в жизнеописаниях ее главнейших деятелей. Ростов н/Д, 1998. Т. 3. С. 243).
Однако не только историки, но и литераторы и литературные критики определяли и оценивали деятельность Петра. Например, А. С. Пушкин так писал о выборе Петром места для новой столицы: «Петр I не любил Москвы, где на каждом шагу встречал воспоминания мятежей и казней, закоренелую старину и упрямое сопротивление суеверия и предрассудков. Он оставил Кремль, где ему было не душно, но тесно; и на дальнем берегу Балтийского моря искал досуга, простора и свободы для своей мощной и беспокойной деятельности. После него, когда старая аристократия возымела свою прежнюю силу и влияние, Долгорукие чуть было не возвратили Москве своих государей; но смерть молодого Петра II снова утвердила за Петербургом его недавние права» (Пушкин А. С. Путешествие из Москвы в Петербург // Пушкин А. С. Собр. соч.: в 10 т. М.: ГИХЛ, 1959-1962. Т. 6. С. 383).
В. Г. Белинский со всей силой своей страстной натуры объясняет причину выбора именно этого «убогого уголка», «приюта чухонца» в широком устье Невы с островом Котлин. Петру нужна была столица на берегу моря, а берега Северного и Восточного (как тогда называли Тихий) океанов и Каспийское море нисколько не могли способствовать сближению России с Европой (разве что с Турцией, иронически замечает автор). Балтийское море, «прилежащие к нему страны исстари знакомы были русскому мечу» и оставить их в чужом владении значило бы сделать Россию навсегда закрытой для сношений с Европой: Петр слишком хорошо понял это, и война со Швецией «по необходимости сделалась… главною пружиною всей его деятельности» (Белинский В. Г. Петербург и Москва // Белинский В. Г. Собр. соч.: в 3 т. М., 1948. Т. 2).
Перелом в духовной жизни сложнее и совершается гораздо медленнее, чем в материальных сферах. На ней сложность утверждения нововведений петровской эпохи видна со всей отчетливостью. Петр хотел европеизировать Россию – сейчас, немедленно, однако его торопливость многое испортила. Он стремился скорее узнать («неистовая любознательность» – удачная характеристика, принадлежащая О. С. Евангуловой), открыть, освоить, догнать – и это после почти восьмивекового существования народа в ритме и по правилам той жизни, какой жили деды и прадеды, проявляя извечное недоверие ко всяким новшествам. Как писал Н. М. Карамзин, жизнь человеческая кратка, а для утверждения новых обычаев требуется долговременность.
Царю выпал тяжелейший жизненный опыт. Великие замыслы требовали времени, а в запасе у него, как сказал классик, была одна человеческая жизнь. Отсюда вечная спешка – но и результат фантастический. Стоит только вспомнить несколько дат: 2 апреля 1696 г. со стапелей Воронежа спускается первая галера, а менее чем через два месяца – 27 мая того же года флот из 22 галер в окружении многих маленьких суденышек входит в Азовское море.
Петровское время с неизбежностью было полно контрастов. Насильственными зачастую были и перемена быта – смена платья и бритье бороды, которое рассматривалось старыми людьми как «блудное, развратное, скаредное дело»; и привлечение к общественной жизни, полное курьезов вроде запрещения подавать необоснованные жалобы на то, что один на другого смотрит «зверообразно». В указе о проведении ассамблей, в частности, провозглашалось: «Ассамблея есть слово французское, которое на русский язык одним словом выразить невозможно, но обстоятельно сказать – вольное, где собрание или съезд делается не только для забавы, но и для дела, где можно друг друга видеть или переговорить или слышать, что делается» (ПСЗРИ. Т. V. Указ от 26 нояб. 1718 г.).
Однако практическое осуществление подобных сборищ происходило, как правило, в деревянных домах, в дыму трубок и пьянстве без меры, в присутствии дам, одетых во французские платья, но «изящно» почесывающихся изысканными палочками от блох, и нередко кончалось дракой. Только в перемене быта видна уже контрастная «светотень» всей эпохи первой четверти XVIII в.
Но, пожалуй, самой контрастной фигурой этого времени был тот, кому исторической судьбой выпало на долю стать первым русским императором. Сама личность Петра – прекрасная иллюстрация к проблеме контрастов в жизни русских людей XVIII в. Многими историками было отмечено печальное влияние трагических событий юности на характер Петра: в эту гигантскую гениальную натуру был заложен зародыш жестокости и необузданности. Только в 16 лет он обучится четырем правилам арифметики и не будет знать толком, как отделить одно слово от другого, по совсем немного времени пройдет, когда он скажет: «Академия, школа – дело есть зело нужное для обучения народного». В Кунсткамере будут собирать заспиртованные диковины, «раритеты», вроде льва, «бородатой бабы» или великана Буржуа, от которого Петр, быть может, втайне наивно мечтал получить великанье потомство. В итоге именно редкая любознательность Петра стала толчком к образованию Российской Академии наук. Так что поистине «культуру петровского времени можно было назвать какой угодно: деловитой, прагматичной, но скучной ее не назовешь» (Дмитриева Н. А. Краткая история искусства. Т. 2. М., 1975. С. 298).
Окружение Петра I
Посылая за границу людей своего окружения, выделенных им за те или иные качества, царь требовал отчетов в виде дневников, писем, записок разного рода. Правда, в этих записках ученые замечания перемежаются с наивным удивлением по поводу анатома, «с членами человеческого тела работающего», или обстоятельным изложением (и осуждением) легкости нравов в некоем месте, где подносили ужин обнаженные девицы. В этих записях скорее встретишь сообщение о длине и ширине Собора Св. Петра в Риме, чем суждения о художественном образе этого архитектурного сооружения. Но сквозь все эти наивные замечания, сквозь все парадоксы виден человек начала нового столетия, открытыми глазами, как архаический курос, взирающий на мир. Сам Петр интересуется множеством предметов, знакомится с учеными, художниками, подчас проявляет такую профессиональную осведомленность, на которую (по отдельности) многие затрачивают всю жизнь.
Люди из окружения Петра действительно стали цениться «по заслугам личностным», а не за титулы и родовитость, что было закреплено им в конце жизни в «Табели о рангах» (1722). Так появились на свет «птенцы гнезда Петрова» (выражение А. С. Пушкина), родовитые и совсем неродовитые – А. Д. Меншиков и П . А. Толстой, П. П. Шафиров и Б. П. Шереметев, Б. И. Куракин и Ф. М. Апраксин, И. Т. Посошков и В. Н. Татищев, Д. М. Голицын и Я. В. Брюс, А. А. Матвеев и А. К. Нартов, многие другие. Характеристика «птенцов петровых», некогда сделанная замечательным историком В. О. Ключевским, не всегда совпадает с мнением современных исследователей, но одно можно сказать определенно: царь умел выбирать людей энергичных, деятельных, смелых.
Петр немало потрудился и над новой системой образования. В Москве были открыты Пушкарская школа, Школа математических и навигацких наук (первое светское учебное заведение), Медицинская школа, а также инженерные, кораблестроительные, штурманские, горные и ремесленные школы и др., в Петербурге – Морская академия, Высшая инженерная школа. Добавим к этому «цыфирные школы» по всей России для подготовки мелких чиновников и гарнизонные – для обучения солдатских детей. В 1716 г. на Выборгской стороне был организован Петербургский военный госпиталь и при нем Хирургическая школа, позже – Адмиралтейский госпиталь. При Александре-Невской лавре существовала Словенская школа, на берегу реки Карповки – школа Феофана Прокоповича, так называемая Карповская.
С 1700 г. был принят юлианский календарь – важное нововведение. В 1703 г. вышла первая русская газета «Ведомости о военных и иных делах», с 1708 г. была введена гражданская азбука, в 1719 г. открыт для всеобщего обозрения первый естественнонаучный и исторический музей – Кунсткамера. Наконец, за год до смерти Петра, 28 января 1724 г., был подписан указ об учреждении Российской Академии наук с университетом и гимназией при ней. В указе говорилось о том, чтобы в Академии «учились языкам, также прочим наукам и знатным художествам и переводили б книги… чтобы ученые люди… о совершенстве художеств и наук трудились…» (ПСЗРИ. СПб., 1832. Т. 7. С. 220–221). Уже после смерти Петра, но по его замыслу была открыта общественная библиотека в Петербурге. Именно она легла в основу библиотеки Академии наук, подобно тому, как театр в Петербурге заложил основу будущего всероссийского театра середины века.
В 1840-е гг. историк М. П. Погодин поэтически ввел читателя, знающего русскую историю лишь по В. Н. Татищеву и Н. М. Карамзину, в тот великий масштаб деяний, который охватил деятельность Петра (см.: Погодин М. П. Историко-критические отрывки. Т. 1. М., 1846). Чуть более чем полстолетия спустя В. О. Ключевский еще эмоциональнее писал: «Вера в чудодейственную силу образования, которой проникнут был Петр, его благоговейный культ науки насильственно зажег в рабьих умах искру просвещения, постепенно разгоравшуюся в осмысленное стремление к правде, то есть к свободе» (Ключевский В. О. Соч.: в 9 т. Т. 4. М., 1989. С. 203).
Приметы нового были видны во всем. Но более всего разнился по сравнению с прошлым быт самого Петра, «шкипера Питера Баса», который окружил себя мастеровыми, ремесленниками, купцами, матросами, курил трубку, солоно шутил, дергал зубы своим приближенным, а главное – любил трудиться и находил в труде радость. Как верно отмечала Н. Н. Коваленская, «саардамский плотник», конечно, не отказывался от прав самодержца, однако стремление к простоте в своем быту не было игрой в чужие бюргерские нравы. Ибо в основе всех этих новшеств лежало новое представление о человеке и его достоинстве, оцениваемом теперь «по заслугам личностным». В петровскую эпоху, когда так силен был культ государственности, «пафос этатизма», как принято говорить теперь (именно о петровском времени), личность рассматривалась прежде всего в аспекте государственном – как личность государственного деятеля, верного своему долгу перед Отечеством. Новое представление о человеке нашло отражение и в искусстве петровского времени, придало прогрессивный характер всей петровской культуре, открыв перед ней длинный путь развития, сделав ее явлением перспективным.
«Свейская» война
Стремление Петра I превратить Россию в державу европейского типа и начатая в связи с этим длительная война за выход к Балтийскому морю поставили перед царем много проблем, касающихся взаимоотношений России с иностранцами. Эти отношения постепенно менялись во всех сферах жизни: политической, общественной, экономической, культурной. Петр тоже прошел определенную эволюцию. Знаменательно, что изменения наметились еще с поражения под Нарвой. «Нарвская конфузия» 9 сентября 1700 г. обернулась «щастьем», по выражению самого Петра. Общеизвестны его слова: «Шведы наконец научат и нас, как их побеждать». Позже А. С. Пушкин напишет в «Полтаве»: «Суровый был в науке славы / Ей дан учитель…» Измена иностранных офицеров показала царю, что нельзя опираться только на иностранцев и уж совсем нельзя полностью доверять им. Если в первые годы царствования Петра I ответственные посты занимали Лефорт, Гордон, герцог де Круи и т.д., то после Нарвы опорой царя становятся Меншиков, Апраксин, Голицын, Сенявин, Шереметев.
После Смоленска шведы лишились былой самонадеянности. Постепенно изменилось и отношение народа к политике царя. Как отмечал А. С. Пушкин в «Истории Петра», народ смотрел с изумлением и любопытством на пленных шведов, на их оружие, влекомое с презрением русскими воинами, на торжествующих своих соотечественников и начинал мириться с нововведениями Петра. Через пять лет после Полтавы народ примирился с «царем-антихристом». Петр «вошел в Москву при пушечной пальбе, колокольном звоне, барабанном бое, военной музыке и восклицании наконец с ним примиренного народа: здравствуй, государь, отец наш!» (Пушкин А. С. История Петра // Пушкин А. С. Собр. соч. Т. 8. С. 183). Как писал современный историк Н. И. Павленко, «Полтава похоронила надежды шведов на победоносное окончание войны».
Естественен в связи с выходом к морю интерес Петра к Северной Европе и прежде всего к Голландии как могущественной морской державе. В области политической и экономической связи с Голландией и вообще с севером Европы были давние. Еще в 1601 г. была издана грамота Бориса Годунова, разрешавшая «немцам брабанским, голландским и нидерландским» торговать в Архангельске, но запрещавшая им ездить «к Москве и в московские города». Просьбы иностранцев о свободной торговле, об освобождении от уплаты долгов, накопившихся вследствие убытков, понесенных в Смутное время, встречаются еще при первом Романове. В 1663 г. голландские купцы обращаются к русскому государю с просьбой разрешить им подчиняться только Посольскому приказу. При Петре I устанавливаются постоянные связи с Голландией: в 1699 г. он направляет туда в качестве посла А. А. Матвеева.
Даже в отношении к любимой им Голландии Петр пережил определенную эволюцию. Менялся не только взгляд на Западную Европу, но и круг поставленных в связи с нею задач. Это видно хотя бы из сравнения двух путешествий Петра в Голландию: в 1697–1698 и 1716–1717 гг. Во время первого путешествия царь интересовался строительным искусством, естественно-историческими науками, общался с Фридрихом Рюйшем, профессором анатомии. Он хоть и посещал художников, однако главным для него было судостроение и налаживание мореходства – и во всем была неистребимая тяга к знанию, умению, ко всему новому. Несмотря на то, что это было Великое посольство, Петр упрямо трудился на захолустной

верфи. Через 20 лет это были уже первоклассные верфи Ост-Индской компании, доки Англии. Во втором путешествии Петр значительно больше и чаще посещал художников; по словам современников, часами следил за их работой; купил много «марин» любимого живописца А. Сило, дав им потом лучшие места в Петергофском дворце и Голландском домике; заказывал портреты свои и Екатерины, а также своих приближенных.
Часто и, наверное, справедливо пишут о рациональном духе петровского времени и всех его реформ. Самому Петру в значительной степени было свойственно рациональное мышление. Это естественно, так как Петр не воспитывался на идеях европейского Просвещения XVII в. с его понятием о государстве на основе «общественного договора», о праве, о необходимом совершенствовании законодательства, о технократии и пр. Но его не могли не привлечь развитие в Европе того времени естественных и математических наук, философии, свойственная тому времени иллюзия неограниченности человеческих возможностей, осознание государства как единственного инструмента в достижении человеческого счастья. Эти идеи были близки Петру: и пафос государственности, и роль права в законодательстве, и вера в человеческий разум и технический прогресс – разве это не черты Просвещения, пусть только делающего первые шаги на русской почве?
Еще в своей первой поездке за границу в 1697–1698 гг. Петр впервые ощутил дух европейской цивилизации. Отсюда возникло отчуждение, оттолкновение, наконец, полное неприятие старого уклада своей страны вплоть до се внешнего облика. Может быть, именно тогда он впервые ощутил Россию как часть Европы, часть ее географического целого. Можно ли было уклониться от европейской цивилизации? Историк С. Ф. Платонов справедливо замечает, что старые культурные идеалы были тронуты еще до Петра его отцом Алексеем Михайловичем и отчасти братом Феодором, по они выступали как ученики киевских богословов и схоластиков, а Петр был выученик и вдохновитель культурных западноевропейских идей и стремился приобщить свою страну к духовному общению со всем цивилизованным миром (см.: Платонов С. Ф. Лекции по русской истории. СПб., 1909. С. 509–511. Цит. по: Анисимов Е. В., Каменский А. Б. Россия в XVIII – первой половине XIX века. М., 1994. С. 66).
Отношение царя к искусству неверно рассматривать как чисто утилитарное и уже совсем ошибочно – как пренебрежительное, словно к делу второстепенному, особенно «когда Ништадтский мир прекратил военные действия России к Западу. Главная цель была достигнута: в руках России были берега Балтийского моря и земля, на которой был поставлен любезный Петрову сердцу Петербург, признана вечною принадлежностью России. Теперь деятельность Петра могла уже совершенно свободно обратиться в иную сторону» (Костомаров Н. И. Русская история в жизнеописаниях ее главнейших деятелей. Т. 3. С. 225). Еще масштабнее характеризовал эту победу С. М. Соловьев: «…через 20 лет восточное Балтийское поморье находилось в русских руках; степной, восточный период русской истории кончился – морской, западный период начался. Впервые славяне после обычного отступления своего пред германским племенем на восток, к степям, повернули на запад и заставили немцев отдать себе часть северного Средиземного моря, которое стало – было – Немецким озером. Таково было главное следствие Северной войны… но этим не ограничивалось значение великого события. Занявшая место Швеции держава была держава новая, не участвовавшая прежде в общей европейской жизни, держава, приносившая европейской истории целый новый мир отношений, держава громаднейшая… держава славянская… принадлежащая к восточной церкви… Давно история не видала явления, более обильного последствиями» (Соловьев С. М. История России с древнейших времен. Кн. IX. Т. 17–18. М., 1993. С. 305-306).
Этой державе предстояло решать многие разнообразные проблемы. Среди них – искусство, культура, просвещение, часть того, что Н. И. Костомаров в приведенной выше цитате и имел в виду под названием «иная сторона». Как уже отмечалось, переломный процесс обмирщения искусства (а это одна из главных черт культуры Нового времени) наметился еще в XVII в. Расширение тематики религиозной живописи; реалии быта, вторгшиеся в нее; появление парсуны; наконец, даже безудержное стремление к празднично яркому декору в архитектуре XVII в., как культовой, так и гражданской, – все это свидетельствовало о серьезных изменениях в мировоззрении древнерусского человека.
Особенности и сложность нововведений в духовной жизни страны. Термин «петровское барокко»
Процесс европеизации проходил во всех областях русской жизни. Переход от Древней Руси к новой России, от Средних веков – к Новому времени был многотруден, так как задержался почти на 300 лет по сравнению с Европой, где уже сложились новые формы жизни. За несколько десятков лет России пришлось пройти тот путь развития, какой на Западе длился два, а вернее, даже три века. Это в полной мере касается культуры в целом и изобразительного искусства в частности. Расставание с прошлым в культуре, общественной жизни, а в искусстве – с приемами древнерусской живописи длилось долго; приметы этого, по сути, прослеживаются на протяжении всего столетия. Но в начале нового века затевается строительство новой столицы, столь дерзко возведенной на краю света, на болотах, под ветрами Балтики. Дени Дидро, дивясь Петербургу, высказался так: «Столица на пределах государства – то же, что сердце в пальцах у человека: круговращение крови становится трудным и маленькая рана – смертельною» (цит. по: Божерянов К., Эрастов Г. Санкт-Петербург в Петрово время. К 200-летнему юбилею Санкт-Петербурга 1703-1903. СПб., 1903. Выи. I–III. С. 61).
Однако именно с этого времени можно говорить о том, что магистральной линией в искусстве становится искусство мирское, светское. Впрочем, это совсем не означает прекращения храмового строительства и развития иконописания или книжной миниатюры. Речь идет о приоритете, о победе того процесса в искусстве, которое искусствоведы назвали обмирщением, когда ведущим становится искусство не религиозное, а светское. Это целый переворот, переустройство в жизни и культуре в целом, и чтобы достичь его, царю-реформатору пришлось совершить многое.
В результате та черта искусства, которую Н. Н. Коваленская назвала «спрессованностью», «уплотненностью» развития, проявилась в петровский период с наибольшей остротой. При высочайшем уровне прошлой – древнерусской – культуры, при уже канонизированном западноевропейском опыте эта «спрессованность» породила в русском искусстве параллельное существование сразу нескольких стилевых направлений; несоответствие некоторых явлений объективным условиям; определенные курьезы в процессе его сложения, особенно в первой трети столетия. Без учета указанных особенностей, аналог которым трудно найти в западном искусстве, невозможно понять саму сущность русской культуры XVIII в. Только с середины столетия начинается уже более соответствующее общеевропейскому развитие барокко, рококо, затем классицизма и сентиментализма.
В первой трети XVIII в. все эти противоречия и конфликты выступают в особенно обостренном и обнаженном виде. Так, употребляемый в науке термин «петровское барокко» вполне условен. Несомненно, это общеевропейское русло барокко с уклоном в его северный – голландский – вариант, более сдержанный, лишенный мистицизма или аффектированности итальянского либо немецкого барокко, приобретший свои национальные черты на русской почве. Архитектура петровского барокко излишне рациональная, четкая в основных формах и непривычно симметричная в решении объемов, чтобы целиком отвечать стилю европейского барокко. Аллегории и символы, почерпнутые в основном из античной мифологии, как черпались они и европейским искусством, не были абстрактно отвлеченными, а выражай и конкретные идеи Петра и всегда ставили конкретные практические задачи.
Сам Петр как личность имел огромное влияние на формирование нового искусства. Никакие курьезы не могли остановить его стремление к объективному познанию мира, развитие наук, расширение книгопечатания, утверждение новой светской культуры. Пафос познания, равно как и пафос государственности, пронизывает и изобразительное искусство. Во всяком случае, его гражданственное звучание в петровскую эпоху несомненно. Манеры и стилевые приемы в русском искусстве петровской поры крайне разнообразны. Этот полный новых идей и образов период – время появления новых жанров и незнакомых ранее сюжетов – во многом является результатом тесных контактов с западноевропейскими художниками самого разного уровня. Не говоря об архитектуре (Кунсткамера, здание Двенадцати коллегий с его Сенатской палатой и др.), назовем прежде всего монументально-декоративную живопись таких вполне светских сооружений, как Летний дворец в «Летнем огороде» (как тогда именовали Летний сад), Меншиковский дворец с его Ореховым кабинетом; росписи Каравака и Пильмана в Петергофе, отличные от московской традиции, еще сохранившейся в какой-то мере в убранстве Первого Зимнего дворца в Петербурге, о чем мы можем судить по гравюре Алексея Зубова. В станковом искусстве это, конечно, портрет – главный жанр XVIII в. (в чем русское искусство той поры находит точки соприкосновения с английским); жанр, с таким блеском заявивший о себе в творчестве Ивана Никитина и Андрея Матвеева в первой трети столетия и отразивший все перипетии эволюции искусства в последующие его периоды.
Жизнь вносила свои, иногда самые неожиданные коррективы в этот мощный поток разнообразных веяний. То была эпоха поистине гигантских масштабов, когда, отказываясь от средневековой замкнутости, но отнюдь не порывая с многовековыми национальными традициями, русское искусство выходило на общеевропейские пути развития. Судьба предприимчивого русского человека, да еще если он оказался близок к окружению Петра, действительно во многом зависела от него самого, была, что называется, в его руках, как у человека ренессансной поры (недаром исследователи так часто проводят аналогию русского XVIII в. с европейским Возрождением). Однако это отнюдь не означало, что русский человек перестал ощущать за собой обычаи и нравы, опыт и знание прошлого. Поистине лозунгом к этому времени можно сделать слова, приписываемые самому Петру: «Аз есмь в чину учимых и учащих мя требую».
Приобретение западноевропейских произведений искусства для русских собраний
Знакомство русских с европейским искусством происходило несколькими путями. Первый путь, наверное, самый легкий, требующий лишь материальных затрат и некоторого вкуса посланных для этого эмиссаров, – приобретение произведений искусства за границей (от антиков до современных). Уже в первые свои поездки Петр стал покупать книги, гравюры и особенно живописные полотна, как отмечалось ранее, в основном морские пейзажи в духе Адама Сило, что соответствовало собственному вкусу царя. Помимо царской коллекции постепенно складывались собрания приближенных Петра, некоторые – из подражания, другие – из собственной заинтересованности.
Особые хлопоты вызывала покупка скульптурных произведений. Русскому человеку, воспитанному на том, что круглая скульптура – это языческий идол, «болван», трудно было смириться с вторжением подобных «чудищ» в его быт. Но верный адепт царя, денщик Юрий Кологривов, посланный эмиссаром в Италию, аккуратно исполняет его приказы и, отвоевав «Венеру» (будущую Таврическую) и другие статуи от притязаний известного римского коллекционера кардинала Альбани, не без гордости сообщает: «…однако же он с ыталиянским велеречием не пресечет чтоб я с моим русским коснословием не сыскал способу их вывесть из Риму» (РГАДА. Ф. 9. Д. 41; цит. по: Каминская А. Г. К истории приобретения статуи Венеры Таврической // Проблемы развития русского искусства. Вып. 14. Л., 1981. С. 10). И купил за 196 ефимков, что было огромной суммой по тому времени и чего прижимистый на ефимки Петр не жалел, когда это было нужно «для славы России».
Приглашение иностранных художников для работы в России
Второй путь знакомства русских с европейским искусством – приглашение западных художников на работу в Россию. Потребность в новой архитектуре, новых типах зданий, в техническом усовершенствовании, появлении новых жанров в живописи и графике, новой не только рельефной, но и круглой скульптуры (т.е. все то, что несло с собой обмирщение искусства) вызвало к жизни необходимость привлечения иностранных, как бы теперь выразились, специалистов. Их национальный состав, а главное – их квалификация и степень талантливости были далеко не одинаковы. Среди них были и очень крупные мастера, вроде архитектора А. Шлютера или скульптора Б. К. Растрелли, и весьма даровитые (архитекторы Н. Миксгги, Г. Киавери, живописцы И. Г. Таннауэр и Л. Каравак), и почти неизвестные вне России, но именно здесь оставившие свой след, как, например, архитектор Доменико Трезини. Попадались и совершенно случайные люди, авантюристы, которые знали о России только то, что там хотя и «ходят медведи по улицам», но зато можно хорошо поживиться; и наживались. Впрочем, следует помнить, что отношение в России к отечественным и иностранным мастерам всегда было разным и их творчество по-разному оценивалось. Сравним для примера положение двух виднейших художников, работавших вместе в стенах Канцелярии от строений с конца 1720-х гг., – Л. Каравака и А. Матвеева.
Луи Каравак, приехавший в Россию в 1716 г., был придворным живописцем до самой своей смерти в 1754 г., пережив все превратности русской жизни первой половины XVIII в. До приезда Матвеева он был единственным художником Канцелярии от строений, главой всех живописных работ на всех строительных объектах Петербурга и его окрестностей. По первому контракту 1716 г. Караваку платили жалованье 500 руб. в год. В 1718 г. по указу его на три года обеспечивали «безденежной квартирой» и даровали место на строение двора; а «ежели не похочет более в службе Его Императорского Величества быть, то можно ему будет ехать, куда он похочет, и двор свой продать». Кроме того, он был освобожден от всяких пошлин. С 1724 г. контракт с ним был продлен на два года с жалованьем в 1000 руб. и готовой квартирой.
Андрей Матвеев, прошедший высокопрофессиональную выучку у значительных мастеров Голландии и Фландрии в Королевской академии Антверпена, возвратившийся во всеоружии европейского мастерства и приглашенный сразу на главные объекты Петербурга, тем не менее получил жалованье в пять раз меньшее, чем Каравак, да и первые полгода ему вообще не платили. Он умер, не дожив до 37 лет, и Канцелярия от строений сохранила запись в своих протоколах о денежной сумме, которую вынуждены были выплатить его вдове, ибо она «оного мужа его тело чем погребсти не имеет».
Так было и в середине XVIII в. В частности, Якоб Штелин сообщает о будущем годовом жалованье граверу И. Штенглину в размере 400 руб., что равнялось 800 гульденам и было огромной суммой. Г. X. Грооту платили 1500 руб. плюс квартира и деньги на дрова. Как верно замечено, обычно сопоставляется жалованье иностранцев и русских, но никогда не делается сравнение оплаты иностранных мастеров в России и у них на родине, а это, как правило, раз в 10 меньше того, что они получали в России (см.: Маркина Л. Немецко-русский художественный обмен середины XVIII в. Аспект просветительской деятельности // Культура эпохи Просвещения. М., 1993. С. 131). Примеры можно продолжить.
Иностранные мастера обычно мало внимания обращали на обучение отданных им в помощь учеников (жалобы на это нередко встречаются в документах тех лет). И Петр, как справедливо заметил С. М. Соловьев, не поддался искушению иметь дело только с иностранными мастерами; он быстро понял, как важно «ковать свои кадры».
Пенсионерство при Петре I
Третий и, быть может, самый важный из путей знакомства русских людей с европейским искусством, имевший перспективу на дальнейшее, заключался в том, что наиболее способных отправляли обучаться в «заморские страны» как пенсионеров, т.е. на государственный кошт, «пенсион». Первые посланцы – художники братья Никитины, Михаил Захаров и Федор Черкасов в 1716 г. отправились в Италию, Андрей Матвеев как личный пенсионер Петра и Екатерины уехал в Голландию, а затем в «Брабандию» (Фландрию). Учение «художествам» Петр понимал очень широко. Под «художествами» в его время подразумевалось и корабельное, шлюзное, пушкарское, слесарное, садовое, штукатурное и т.п. дело, ремесло плотников, механиков, каменщиков, резчиков, столяров и пр., а наряду с этим и «живописное, или персонное» художество, «ваяльное, или скульптурное», «строительное, или архитектура цывилис и милитарис».
В контракте с приглашенными иностранцами оговаривался пункт, обязывающий их иметь учеников, что, однако, не было систематическим, целенаправленным обучением. Проблема нехватки специалистов с петровских времен встала очень остро. У. А. Сенявин, глава Канцелярии городовых дел, и особенно адмирал Ф. М. Апраксин (первые постройки в Петербурге вело его Морское ведомство) советовали Петру прекратить выписку дорогостоящих иностранцев-архитекторов и как можно скорее решить проблему с подготовкой собственных мастеров. Сам Петр тоже не считал нормальным положение, создавшееся в начале XVIII в., и смотрел на массовый вызов иностранцев как на неизбежную, но временную меру.
Конечно, обучение за границей в своих истоках восходит к более раннему времени, чем правление Петра I. Еще в XVII в. большая часть известных духовных лиц, в основном из малороссов, училась в заграничных академиях и школах. Но это касалось духовного образования. Светское же обучение за границей за счет государства, прежде всего морскому делу, ввел Петр. Первый раз из комнатных стольников было отправлено в Италию 45 человек, в Англию и Голландию – 22. В Италии за ними присматривал агент при тайном советнике Савве Владиславиче (Рагузинском) П. И. Беклемишев. В 1702 г. было «послано из Архангел-города в Голландию 150 молодых дворян для учения матросского дела под смотрением голландца Иоганна фан ден Бурга» (Бантыш-Каменский Н. Н. История внешних сношений России. М., 1894. С. 192).
Иоганн ван ден Бург, или, как его именуют в русской переписке, Яган Фанденбург (ум. 1731), был торгово-политическим агентом России в Голландии. Он вел переписку и с Коллегией иностранных дел, и с Адмиралтейством, и даже личио с Петром, но главным его делом все-таки был надзор за русскими учениками в Голландии. Вплоть до 1728 г. у него под надзором насчитывалось по несколько десятков человек. Благодаря счетам и письмам, аккуратно посылаемым Фанденбургом то кабинет-секретарю Петра А. В. Макарову, то канцлеру Г. И. Головкину, мы многое узнаем о жизни и судьбах русских пенсионеров за границей (переводы реляций, писем и бесчисленных счетов Фанденбурга, от которого требовали подробных отчетов, см.: Ильина Т. В., Римская-Корсакова С. В. Андрей Матвеев. М., 1984). Обязанности надзирающего за учениками Фанденбурга были разнообразны и хлопотны. Некоторые ученики, недовольные обучением (как писал один из них, мастер вместо того, чтобы учить строить, заставляет его заниматься домашней работой), бегут в иные страны; другие «изрядно запиваются», «ходят по блудным дворам» и устраивают «великие драки», даже грозятся «зарезать ножами»; третьи просто просятся домой, тоскуя по родным. Донесения Фанденбурга очень колоритны.
Так, об одном из учеников корабельного дела, Якове Арсентьеве, Фанденбург пишет: «…великой обманщик и не хотел работать, был много за караулом и хотел своего мастера заколоть ножом и многое зло поделал, а ныне за два дин до отправления его в Петербург ушел и, как чает, он в Англии. Имеет добрый разум да злую голову».
Другой ученик – Михаил Муравьев: «Будучи доставленным в Саардам к мастеру Яну Энгельсу для обучения делу корабельной оснастки, он с самого начала был склонен к употреблению спиртных напитков и всегда был готов с каждым затеять ссору и даже с самим учителем. Таким образом, все его боялись. Он спрашивал у своего хозяина, имеются ли в Саардаме игорные и публичные дома, подобно тому, как в Амстердаме, и не получив ответа, сказал, что он был женат и не должно было посылать его работать и учиться, а что он должен быть с какой-либо женщиной. Хозяин ему ответил, что в Саардаме он не может такую найти. На что тот ответил: “Тогда, хозяин, мне придется использовать твою жену или дочь, а я за то им дам денег”».
Услав неудачного ученика в Гаагу, Фанденбург и там имел с ним неприятности и в итоге должен был заплатить за его лечение 3 тыс. рейхсдалеров. Письмо Фанденбурга Макарову заканчивается жалобной просьбой о деньгах (которые агенту выплачивали очень неаккуратно): «Пожалуйста, позаботьтесь о том, чтобы я получил эту ремиссию, потому что я болен от этой тяжелой работы и без денег мне будет еще хуже, так что даже могу от этого умереть, а хотел бы еще немного пожить для того, чтобы послужить Его Величеству. Надеюсь на внимание Вашего превосходительства и рекомендую себя как выполнившего все свои обязанности Вашего превосходительства покорный слуга ван ден Бург» (цит. по: Ильина Т. В ., Римская-Корсакова С. В. Указ. соч. С. 51–52).
Зато когда попадались ученики добросовестные и тем более талантливые, каким был, например, Андрей Матвеев, Фанденбург не скупился на похвалы. Матвеев даже жил у него в доме. Реляции и письма Я. Фанденбурга – лишь малая иллюстрация к его многочисленным и самым разнообразным документам, касающимся жизни и учения петровских пенсионеров. Впрочем, пенсионерство художников сложилось не сразу. Как уже отмечалось, сначала стали посылать обучаться ремеслам и наукам. Вскоре то же коснулось и искусства. В начале 1716 г . Петр принял и летом осуществил важное решение, о котором пишет И. Э. Грабарь: «Отправляясь во второе заграничное путешествие, указом от 2 марта 1716 г. он приказал Конону Зотову подобрать 20 человек дворянских детей не моложе 17 лет и отправить их за границу для обучения. Зотову помогал в отборе Аврамов, но деятельное участие принимал и сам царь, знавший некоторых, намеченных к поездке, лично еще по Москве» [оговоримся, что указ, на который ссылается И. Э. Грабарь в книге «Русская архитектура первой половины XVIII в. Материалы и исследования» (М., 1954. С. 167), нам неизвестен].
Отправление первых русских художников за границу в 1716 г., по мнению П. Н . Петрова, и было «началом действительной художественной жизни в нашем отечестве» (автор имел в виду начало жизни светского искусства). Это было подобно тому, как первые подданные, отправленные Петром в Голландию и Англию учиться морскому делу, стали первыми русскими моряками.
Первые петровские пенсионеры – будущие художники – выехали весной 1716 г., но не все в одно время, так как их нужно было развезти по разным странам и городам. Для обучения живописи в Италию были отправлены братья Никитины, М. Захаров и Ф. Черкасов. Их отвозил в Венецию царский резидент П. И. Беклемишев. Ю. И. Кологривов, который успешно занимался в Италии собиранием скульптуры и еще в 1715 г. составлял царю записку о новой системе художественного образования (по которой двухгодичное заграничное пенсионерство было обязательным условием завершения подготовки русских архитекторов), повез в Рим будущих зодчих – П. М. Еропкина, Т. Н. Усова, Ф. М. Исакова, П. Колычева. В Голландию были отправлены учиться: А. Матвеев – живописи, С. М. Коровин – гравюре, И. К. Коробов, И. А. Мордвинов, М. Д. Башмаков, И. Ф. Мичурин – архитектуре. Из Голландии Матвеев был отправлен во Фландрию. К 1723 г. во Флоренции остались только Захаров и Черкасов, так как братья Никитины были отозваны царем на родину. Архитекторы Исаков и Колычев также возвратились в Россию, а Усов и Еропкин вернулись в 1724 г. В 1722 г. прошение о возвращении писали гравер Коровин и «архитектурии гезель» Башмаков. Андрей Матвеев возвратился по смерти Екатерины в 1727 г.
Конечно, далеко не все, кого посылали за границу, стали знаменитыми художниками или архитекторами. Но живописцев Андрея Матвеева, братьев Ивана и Романа Никитиных, архитекторов Петра Еропкина, Ивана Коробова и Ивана Мичурина по праву называют в числе тех, кто прославил Россию. Петр I хотел, чтобы было воспитано поколение русских мастеров, способных занять ведущее положение в художественной жизни России, сменив на основных местах приглашенных им по необходимости иностранцев. Он хотел создать высшее учебное заведение художественного профиля, где педагогами также были бы преимущественно отечественные мастера. В достижении этих целей он возлагал большие надежды на рвение пенсионеров, подавая им личный пример. Так, И. И. Неплюев, тогда гардемарин, в своих записках вспоминает о возвращении из заграничного обучения: «…я стал на колени, а государь, обратив руку праву ладонью, дал мне поцеловать и при том изволил молвить: “Видишь, братец, я и царь, да у меня на руках мозоли, но все оттого: показать вам пример и хотя б под старость видеть мне достойных помощников и слуг отечеству”» (Неплюев И. И. Записки // Сын отечества. 1825. Ч. 21. С. 439).
Неосуществленные идеи создания Академии художеств
Что касается остальных художников (а их было большинство), они оставались дома и обучались по старинке, сначала в традициях московской Оружейной палаты, а затем при Оружейной канцелярии в Петербурге, Санкт-Петербургской типографии, Кунсткамере, Партикулярной верфи Адмиралтейств-коллегии или в других государственных ведомствах. С 1706 г., как уже упоминалось, в Петербурге была организована Канцелярия городовых дел, переименованная в 1723 г. в Канцелярию от строений, которая заведовала всеми строительными работами в Петербурге и его окрестностях и объединяла всех находившихся на государственной службе так называемых казенных архитекторов и живописцев. Петр вынашивал план создания русской Академии художеств, разбирал предложенные ему М. П. Аврамовым, А. К. Нартовым и Л. Караваком проекты. Однако самостоятельная Академия художеств при Петре I организована не была.
Издавая в 1724 г. известный указ об учреждении Академии наук, Петр назвал ее «Академией, или Социететом художеств и наук». Начиная с 1726 г. при Академии наук существовало художественное отделение, в котором главное внимание уделялось рисунку и гравюре, чисто практическим задачам самого насущного характера. Лишь в 1748 г. художественное отделение было расширено до классов архитектуры, скульптуры, живописи и перспективы (т.е. перспективной живописи). Так, медленно, с перерывами, преданная забвению в десятилетие правления Анны Иоанновны и возрожденная в царствование «дщери Петровой», «блестящей Елисафет», зрела и оформлялась идея Петра I о профессиональном обучении «художествам» и подготовке отечественных кадров в этой сфере.
Архитектура петровского времени
Раннепетровское зодчество в конце XVII века
Московский, или нарышкинский, стиль (названный по основному кругу заказчиков, близкому ко второй жене царя Алексея Михайловича, матери Петра I Наталье Кирилловне Нарышкиной) получил распространение в столице и окрестных боярских вотчинах в последние два десятилетия XVII в. (правление царевны Софьи и раннепетровское время). Представленный наиболее ярко в храмовой архитектуре он характеризовался выразительностью силуэтов ярусных церквей «иже под колоколы» (т.е. увенчанных по центру звонницей, а не куполом), поставленных на высокое основание и окруженных открытыми галереями-гульбищами; дорогим белокаменным декором, который в изобилии обрамляет окна, кружевом ложится на карнизы ярусов, резными колонками подчеркивает грани объемов. Этот стиль в своем богатстве и разнообразии объемно-пространственных и пластических решений соединил в себе композиционные приемы польско-украинского зодчества (после включения Украины в состав Московского царства и заключения Вечного мира с Польшей начались особенно интенсивные художественные контакты; в частности, белорусские резчики иконостасов много работали в России), северного маньеризма (орнаментальный декор, заимствованный из иллюстрированных голландских изданий) и, конечно, русского «дивного узорочья» середины века.
«Нарышкинский стиль» тесно связан с узорочьем, но это в какой-то мере его дальнейшая стадия, в которой проступают преобразованные формы западноевропейской архитектуры — ордера и их элементы, декоративные мотивы, несомненно, барочного происхождения.
От архитектуры XVI в. его отличает пронизывающая вертикальная энергия, скользящая по граням стен, и выбрасывающая пышные волны узоров.
Для зданий «нарышкинского стиля» характерны смешение противоречивых тенденций и течений, внутренняя напряженность, разнородность структуры и декоративной отделки. В них присутствуют черты европейского барокко и маньеризма, отголоски готики, ренессанса, романтизма, слившиеся с традициями русского деревянного зодчества и древнерусской каменной архитектуры. Характерен двойственный масштаб — одного гигантского, вертикально устремленного, и другого — миниатюрно-детального. Эта особенность нашла воплощение во многих архитектурных проектах в Москве в течение всей первой половины XVIII в. Многие традиции нарышкинского стиля можно обнаружить в проектах И. П. Зарудного (Меньшикова башня), Баженова и Казакова.
Элементы наружной отделки типично маньеристического стиля использованы не для расчленения и украшения стен, а для обрамления пролетов и украшения ребер, как было принято в традиционном русском деревянном зодчестве. Противоположное впечатление производят элементы внутреннего декора. Традиционный русский растительный узор приобретает барочную пышность.
Характерное для европейского барокко непрерывное движение, динамика перехода лестниц от наружного пространства к внутреннему, в нарышкинском стиле не получило столь явного воплощения. Лестницы его скорее нисходящие, чем восходящие, изолирующие внутреннее пространство зданий от наружного. В них видимы скорее черты традиционного народного деревянного зодчества.
Лучшими образцами нарышкинского стиля считаются появившиеся центрические ярусные храмы, хотя параллельно с этой новаторской линией возводилось множество традиционных, бесстолпных, перекрытых сомкнутым сводом и увенчанных пятью главами церквей, обогащённых новыми архитектурными и декоративными формами — прежде всего, заимствованными из западноевропейской архитектуры элементами ордера, обозначившими тенденцию перехода от средневековой безордерной к последовательно ордерной архитектуре. Для нарышкинского стиля также характерна двуцветность сочетания красного кирпича и белого камня, использование полихромных изразцов, позолоченной деревянной резьбы в интерьерах, следующих традициям «русского узорочья» и «травяного орнамента». Сочетание красных кирпичных стен, отделанных белым камнем или гипсом, было характерно для зданий Нидерландов, Англии и Северной Германии.
Построенные в нарышкинском стиле здания нельзя назвать подлинно барочными в западноевропейском понимании. Нарышкинский стиль в своей основе — архитектурной композиции — оставался русским, и только отдельные, зачастую едва уловимые элементы декора заимствовались из западноевропейского искусства. Так, композиция ряда возведённых церквей противоположна барочной — отдельные объёмы не сливаются в единое целое, пластично переходя друг в друга, а поставлены один на другой и жёстко разграничены, что соответствует принципу формосложения, типичному для древнерусского зодчества. Иностранцами, равно как и многими россиянами, знакомыми с западноевропейскими образцами барокко, нарышкинский стиль воспринимался как исконно русское архитектурное явление.

Вспомним классический памятник нарышкинского стиля – обетную церковь Покрова Богородицы в Филях (1690–1694), построенную любимым дядей Петра I Львом Кирилловичем Нарышкиным, возглавлявшим тогда Посольский приказ и имевшим почти неограниченные возможности. Прежде она была частью большой усадьбы с одним из первых регулярных садов в России, ступенями спускающимся к реке (подробнее см.: Мерзлютина Н. А. Церковь Покрова в Филях // Архитектура, строительство, дизайн. 2003. № 29). «Центрическая композиция храма с четырехлепестковым планом восходит к архитектурным решениям ренессанса (церкви в Тоди, Лоди), многие мотивы декора иконостаса (разорванные фронтоны, картуши и увитые лозой колонки) типичны для барокко, а картуши, обрамляющие клейма икон местного ряда иконостаса, несомненно, скопированы с маньеристических гравюр» (Бусева-Давыдова И. Л. О концепциях стиля русского искусства XVII века в отечественном искусствознании // Архитектурное наследство. Вып. 38. М., 1995. С . 111).
План в виде квадрифолия (четырехлистника) обычно сочетался с башнеобразным

объемом в центре, который мог быть дополнен главами на пониженных боковых объемах (церковь Спаса Нерукотворного в селе Уборы (1690–1696); построена II. В. Шереметевым). Уникальна по своему каменному убранству и церковь Знамения Богородицы в Дубровицах (1690–1704), в усадьбе воспитателя Петра I Б. А. Голицына, несомненно, строившаяся и оформлявшаяся европейскими мастерами (предполагается участие итальянских, голландских и немецких мастеров лепщиков, штукатуров и пр.: Алемано, Г. Квадри, К. Оснер Старший, Д. М. Фонтана, Д. Руска и др.).
Восьмилепестковая форма плана, повторяющая тему собора Высоко-Петровского монастыря – родовой усыпальницы Нарышкиных, – применена в храме Знамения в Перово (1690–1705), в Никольской церкви села Руднево Тульской области и др.

Среди около двух десятков церквей нарышкинского стиля следует упомянуть храмы Троицы в Троице-Лыкове (1690–1696; построена М. К. Нарышкиным, мастер Яков Бухвостов), Иконы Смоленской Богоматери в Сафарино (1691 – 1694; построена Ф. П. Салтыковым, отцом Прасковьи Федоровны, жены брата Петра I царя Ивана, матери Анны Иоанновны), роскошнейшую, уничтоженную в советское время церковь Успения на Покровке (1696–1705; построена И. М. Сверчковым, мастер Петр Потапов). В них получил распространение тип композиции «кораблем», когда основные объемы (алтарь, храм, трапезная, колокольня) располагались на одной оси, «в линию».
Другая композиция, пришедшая уже из Малороссии, – «трехбанная» (трехчастная, трехглавая) отличалась тем, что пониженные части по сторонам (к востоку и западу) от главного объема завершались грушевидными главами – «банями». При этом обычно следовали традиционной конструктивной схеме: на нижний кубический объем («четверик») ставился восьмигранный («восьмерик»). Далее могли быть варианты: венчание сводом (различной конфигурации) или постановка нескольких уменьшающихся кверху «восьмериков» в колокольнях (или церквях «иже под колоколы»)
В нарышкинских храмах тяготение к центричности композиции, иерархии объемов, сочетавшееся с внутренним хорошо освещенным стопообразным пространством, во многом было унаследовано от шатрового государева строительства XVI–XVII вв., столь блистательно завершенного великолепным световым шатром патриаршего Ново-Иерусалимского монастыря (1658–1685).
Наряду с бесстолпными, продолжали строиться крестово-купольные храмы с опорами, на которые опирался центральный купол, – четырехстолпные и большие шестистолпные соборы, получавшие убранство в духе нарышкинского стиля.
Храмы строились профессиональными артелями по подряду (например, известно, что таким подрядчиком был Я. Г. Бухвостов). В Москве подобных бригад было много: одни специализировались на кирпичной кладке, другие на белокаменном или изразцовом декоре, третьи на деревянной резьбе и т.д. Они могли часто меняться даже на одном объекте, поэтому решающая роль принадлежала заказчику, который выбирал конкретный храм для образца, и далее строительство велось не по архитекторскому чертежу, а по традиции, когда приемы и методы передавались изустно.
Орнаментика, излюбленными приемами которой являлись колонки ордера Иерусалимского храма, перевитые виноградной лозой, могла воспроизводиться в разных техниках – каменной резьбы, изразцах или красочной росписи. Система декора распространялась не только на храмовое зодчество (Трапезная палата Троице-Сергиева монастыря, 1685–1692; Крутицкий теремок, 1693–1694). Нарядные проездные арки Земского приказа, Крутицкого подворья, Сухаревой башни предвосхищают триумфальные «порты» петровской эпохи. Сухарева башня, в 1698–1701 гг. завершенная высокой ярусной башей с шатровым завершением, пад которым высился двуглавый орел государственного герба, стала первой архитектурной доминантой Москвы нового века. В ней размещалась Школа математических и навигацких наук и первая в России астрономическая обсерватория Якова Брюса. Ее архитектурный образ имеет ряд параллелей с ратушами Северной Европы. Ярусной башней со шпилем завершалось и здание Земского приказа на Красной площади.
Узнаваемый набор декоративных белокаменных мотивов: колонки большого ордера (т.е. с пьедесталами), фигурные аттики в виде петушьих гребней, разорванные фронтоны, гермовидные пилястры, раковины-пальметты, фиалы с бобышками – все это наряду с композиционными схемами получит широкое распространение в провинции уже в XVIII в.
Что касается искусства усадьбы, то оно зарождается на рубеже XVII–XVIII вв. Государевы подмосковные резиденции Измайлово, Алексеевское, Братовщина представляли собой обширные имения с богатейшей хозяйственной деятельностью и разнообразными садами («ветроградами»), прудами, огородами и примыкающими к ним охотничьими угодьями. Центром усадьбы обычно были хоромы и церковь при них. Принципиально отличные усадьбы нового типа как сочетание дворца и регулярного сада возникали в Немецкой слободе. Например, усадьба Франца Лефорта после его смерти перешла к Ф. А. Головину, который к 1703 г. устроил в ней сад с каналами на голландский манер. В 1722 г. Петр I решает разместить здесь свою резиденцию и приглашает для ее обустройства голландского врача, будущего лейб-медика Николаса Бидлоо, успешно завершившего строительство имения по собственному проекту. Регулярный сад с Крестовым прудом, «ермитажами», каскадами, фонтанами и статуями был дополнен соседними участками – так сформировался самый большой в Москве ансамбль ландшафтного искусства переходного типа.
Конец XVII в., несмотря на многие его новшества в архитектуре и живописи, стал последней, можно сказать маньеристической стадией в рамках средневекового искусства. Именно это обстоятельство, по мнению О. С. Евангуловой, ограничивает характер использования в нем приемов западноевропейского барокко, стиля Нового времени, позволяя говорить не о реализации его принципов, а скорее об их проекции на иное по своему содержанию искусство позднего Средневековья. Недаром эти памятники включены в курс еще древнерусской архитектуры как в Московском, так и в Санкт-Петербургском университетах. По сути, еще в том же русле развивается архитектура провинции первой половины XVIII в.
Зодчество первой четверти XVIII века вне столиц
Своеобразием отличается строительство этого времени, осуществлявшееся по заказу богатейшего «торгового человека», солеваренного промышленника Г. Д. Строганова. Демонстрируя свою принадлежность к царскому окружению (в Троице-Сергиевом монастыре им была построена надвратная Иоанно-Предтеченская церковь (1693–1699) по образцу храма Преображения (1682–1689) царского Новодевичьего монастыря; исследователи (М. Н. Микишатьев, В. В. Кириллов) также предполагают, что в 1697 г. именно мастера Строганова осуществили перестройку не сохранившейся церкви Никола Большой Крест в Москве), он первым подхватывает столичную тему оформления храмов и внедряет ее в архитектуру городов своих расположенных далеко от Москвы соляных вотчин – на Севере, Урале, на Волге.

Во внутреннем и внешнем устройстве Введенского собора в Сольвычегодске (1689–1693, освящен в 1712) заложены особенности строгановской архитектурной школы, получившей развитие в конце XVII – начале XVIII в. В основу композиции был положен традиционный тип пятиглавого собора на подклете с галереями. Бесстолпное пространство храма перекрыто необычной для того времени конструкцией свода (четырехлоткового сомкнутого свода со световой главой в шелыге и угловыми вырезами для четырех световых глав, при этом распалубки прорезают лотки свода, освобождая центральные части стен от распора). Сохранился высокий резной иконостас (1693), исполненный под руководством изографа Степана Нарыкова, учившегося за границей по распоряжению Строганова и работавшего почти в барочной европейской стилистке. Из белого камня (как в Москве) были вырезаны только сложные по форме элементы (капители колони, гирьки арок крыльца и орнаментальные барельефы), остальные детали декора выполнены из лекального кирпича и побелены. Затем были возведены близкие по формам Казанская церковь в Устюжне (1694) и Смоленская церковь в вотчинном селе Гордеевка (1693–1697). Самая выразительная Рождественская (Строгановская) церковь в Нижнем Новгороде (1696–1703, пострадала от пожара 1715, освящена в 1719) получила несколько иное расположение боковых глав (по украинскому типу – на ветвях креста). Ее колокольня была завершена позднее и носит черты влияния голландской архитектуры. В целом строгановские постройки отличаются традиционностью объемно-пространственных композиций, своеобразием конструкций сводов и обилием дробного декора (так называемый кружевной «жучковый» орнамент), который использовался и при убранстве гражданские построек (например, палаты Строгановых в Усолье).
Строгановский стиль оказал влияние и на Троицкий собор в Верхотурье (1703–1712), построенный соликамскими мастерами

по указу Петра I и получивший расположение глав по сторонам света (украинский тип). В свою очередь, он был воспринят как образец для строительства храмов в Сибири, где по-особенному сплелись формы московского стиля с «украинизмами». Дело в том, что в начале века многие архиереи, назначавшиеся на великорусские кафедры, были выпускниками знаменитой Могилянской академии Киево-Печерской лавры. В частности, митрополит св. Филофей Лещинский (1650–1727) создал по подобию Лавры Троицкий монастырь в Тюмени (собор – 1708–1715) как оплот православия и миссионерской деятельности в Сибири; начал строительство храмов в Тобольске. При митрополите Антонии I Стаховском (1721 – 1740) в Тобольск прибыл украинский каменных дел подмастерье Корнилий Переволоки, артель которого построила здесь целый ряд каменных зданий (например, церковь Рождества Богородицы). Самобытное строительство ведется и по частному заказу – купецкому, посадскому, помещичьему (например, Иоанно-Богословская церковь в Макаровке близ Саранска. 1700–1704).
Архитектура Москвы первой четверти XVIII века
После возвращения Петра из первого заграничного путешествия (1696–1697) и широкого знакомства его сподвижников с европейскими городами в Москве начинается строительство, более ориентированное на западные образцы. Это направление в московской историографии с легкой руки известного современного исследователя Владимира Седова получило достаточно условное наименование «стиля Великого посольства». В столице к такому экспериментальному строительству можно отнести аскетичную по декору завершенную коротким шпицем церковь Святых апостолов Петра и Павла на Новой Басманной (1705–1723).

Один из самых выразительных московских храмов этого времени, который связывают с победой при Полтаве, – церковь Иоанна Воина на Якиманке (1709–1717). В ней традиционные формы (композиция «кораблем» с главным четвериком, увенчанным двумя восьмериками) имеют новое звучание. Плавные очертания сводов купола с окнами-люкарнями, полуглавия, нарядные пилястры, пирамидки и вазоны на карнизах позволяют говорить о веяниях европейского барокко. Кстати, завершение малым восьмериком по типу церкви Иоанна Воина в 1720-с гг. переходит в зодчество Устюга, а оттуда к середине века приобретает популярность на всем Русском Севере, что зачастую приводит к перестройке первоначальных завершений.
После нескольких пожаров, затронувших центр Москвы, в 1701 г. был издан указ о запрещении строить на погорелых местах деревянные строения (разрешались мазанковые или каменные, смотря по достатку). В 1704 г. выходит указ об обязанности строить дома в Китай-городе и Кремле «по чертежу архитекторскому», по новому принципу: не «средь дворов», а «по линии вдоль улиц». В 1712 г. эти требования распространились и на Белый город. Начало законодательным мерам, обеспечивающим «регулярный» вид городу, было положено.
Ряд московских построек начала XVIII в. имел даже определенное влияние на петербургскую архитектуру, например возведенный на месте житных складов Арсенал с его геометрически правильной и симметричной формой плана (начало строительства – 1702; мастера Д. Иванов, Хр. Конрад, М. Чоглоков, М. Ремезов).

В дворцовом строительстве выделяется Лефортовский (Петровский) дворец (1697–1699; мастер Дмитрий Аксамитов) с единым симметричным комплексом помещений вдоль реки – несомненный провозвестник пригородных резиденций под Петербургом. Когда Лефортовский дворец в 1706 г. перешел в собственность А. Д. Меншикова, итальянец Фонтана пристроил три корпуса, образовавших вместе с первым большой внутренний двор. Типично западными были охватывающие два этажа пилястры, вносящие элементы европейской ордерной архитектуры классицизма. Кстати, согласно недавним изысканиям (см.: Малиновский К. В. Санкт-Петербург XVIII века. СПб., 2008. С. 64–68) имя зодчего было Франческо, а не Джованни Марио, как считалось ранее (так звали мастера-лепщика, работавшего в Москве в самом начале века). Интересен дом князя М. П. Гагарина на Тверской улице (1707–1708; арх. Франческо Фонтана (?); сохранились только

обмерные чертежи конца XVIII – первой половины XIX в.). К своим каменным палатам даже думный дьяк А. Кириллов пристроил новую часть – ризалит в голландском духе с высоким

фигурным фронтоном и парадной лестницей внутри. Все эти сооружения в Москве – предвестники петербургских городских застроек вдоль «красной линии».
О новой архитектуре говорит и возведенная под руководством Ивана Зарудного церковь Архангела Гавриила на Чистых прудах, более известная как Меншикова башня (1703–1707). Ее триумфальный характер, вертикализм линий и гигантский деревянный шпиль (сгорел в пожаре 1723 г. и заменен во второй половине XVIII в. куполом, что очень исказило первоначальный замысел) имели несомненное влияние на Петропавловский собор и отчасти на Адмиралтейство – принципиально важные сооружения новой столицы. Поскольку Петербург возник сначала именно как крепость и порт с судостроительной верфью, то именно эти сооружения, окруженные укреплениями, были построены одними из первых.
Основание Петербурга и первые градостроительные проекты
Итак, в 1703 г. был заложен город, ставший в 1712 г. столицей Российской державы. Его начало ознаменовалось закладкой в крепости деревянной, крещатой в плане церкви во имя св. апостолов Петра и Павла. Она получила завершение в виде высокого шпиля, и еще два шпица украсили башнеобразные выступы западного фасада. Сходство с храмами Северной Европы должна была усиливать раскраска стен под квадры камня. С самого начала церковь, заложенная на Заячьем острове, стала главной городской доминантой. Вокруг нее расширялось строительство земляной крепости по правилам европейской фортификации – с шестью бастионами и дополнительными укреплениями: равелином перед главными воротами и Кронверком, защищавшим крепость с севера.
Построить город буквально на краю света, да еще в условиях труднейшей войны, было дерзкой, почти нереальной задачей. Тем не менее он был построен, этот «самый предумышленный город на свете», как его охарактеризовал Ф. М. Достоевский, и справедливо стал символом новой эпохи в жизни России. Строительство города было вызвано острой необходимостью. Без преувеличения все силы были брошены на его создание. Самым тщательным образом выбиралось место: «Между островы теми, – писал Феофан Прокопович, – малый есть островец, на самом рассечении полуденныя и средняя струи стоящий, тот островец сулился быть угодный к новой крепости, понеже и мал собою так, что лишней на нем земли, кроме стен градских, не останется, и, однако, не так мал, чтоб не доволен был дать на себе места, Фортеции приличнаго <…> Когда же заключен был совет, быть фортеции на помянутом островку, и нарицащися оном именем Петра Апостола Санкт Петербурх <…> позваны також сюды от всех российских сторон на житие, всякого чина люди многия, как дворяне, так и купеческий народ, и всяких художеств мастера» (Прокопович Ф. История Петра Великого от рождения его до Полтавской баталии и взятия в плен остальных шведских войск при Переволочне включительно, сочинена Ф. Прокоповичем. 2-е изд. М., 1788. С. 68–69).
В противовес Москве, которую Петр ненавидел за страшные воспоминания о стрелецком бунте, перенося это чувство на все – от людей и обычаев до архитектуры, именно здесь, на балтийских берегах, он ощущал полную свободу творчества. Именно здесь, по сути, и началась настоящая молодость царя; «деятельная, веселая и странная молодость Питера Баса», как писал в своих заметках А. С. Пушкин. Постепенно Петербург, прежде всего регулярный и военный город, становится истинным административным центром, через него осуществляется живая связь России с Западом.
Петр так жаждал поскорее увидеть построенный город, что принимал желаемое за действительное и уже в 1706 г. говорил, что «в параднее райское житие». Однако город и в самом деле рос быстро: о красоте Летнего сада остались свидетельства иностранцев уже в 1712 г., о замечательных дворцах и садах – в 1718 г., а в год смерти Петра Петербург называли одной из красивейших столиц Европы. «Петр строил свой город, как корабль, положа в его основу новые для России градостроительные, архитектурные принципы» (Анисимов Е. Время петровских реформ. СПб., 1989. С. 393).
Постепенно менялась и техника строительства. Сначала волей-неволей город стали строить испытанным способом – в дереве, от которого Петр стремился как можно скорее избавиться, памятуя, какая это легкая добыча для огня: дерево стали раскрашивать под камень, под кирпич (можно вспомнить о символической аллюзии к имени Петра – petra на латыни означает камень). Потом началось мазанковое строительство, т.е. испытанный в Северной Европе фахверк – деревянный каркас, заполненный глиной и щебнем и оштукатуренный снаружи. И уже затем мазанковое строительство сменилось каменным.
Художественный образ петровского Петербурга связан с именами иностранных архитекторов. И. Э. Грабарь называет строительство Петербурга в его начальный период безличным, «как Бог на душу положит», а переломным считает 1713 г., ибо с него началось творчество отдельных архитекторов, приглашенных Петром I из Европы.
Центр нового города, справедливо получившего имя Св. Петра – патрона его основателя, сначала разместился на Санкт-Петербургском острове (Петроградская сторона), в непосредственной близости и под защитой строящейся Петропавловской крепости. Там, как в средневековой Москве, небольшими слободами расселялись в скромных деревянных и мазанковых (фахверковых) домах иноверцы, посадские люди, вельможи. В первое десятилетие сто существования центром города стала Троицкая площадь с деревянным увенчанным шпилем Троицким собором (1711), по краям которой возникли фахверковые Коллегии (предшественники здания на Васильевском острове) и первый гостиный двор. Несколько поодаль, в Дворянской слободе стояли первый дом князя Меншикова, выделявшийся своим шпилем среди других построек, а также жилище самого царя на берегу Невы – «Красные хоромцы».

Этот небольшой деревянный Домик Петра I, срубленный из бруса в 1703 г., сохранился (еще в петровское время над ним был поставлен первый защитный футляр). Дом, традиционный по своему плану (с сенями по центру), издали походил на голландский. Деревянные стены были раскрашены под кирпич, большие окна сделаны горизонтальными и получили мелкую расстекловку, а на кровле располагались резные изображения мортир и горящих бомб, напоминая о чине капитана-бомбардира, который в это время носил царь. Внутри стены были затянуты холстом, косяки и полотна дверей расписаны, а привозные предметы обстановки делали интерьер почти европейским. Рядом, на южном берегу острова, возникнут первые кирпичные дома приближенных царя. В 1710 г. был заложен дом канцлера Г. И. Головкина, считающийся первым каменным домом Петербурга (не сохранился), а за ним дома П. П. Шафирова, М. П. Гагарина, Н. М. Зотова, также исчезнувшие еще в XVIII в.
После крупных побед, одержанных над шведами (Полтава, 1709; Гангут, 1714), Петр предпринял попытку создать центр регулярного города на Васильевском острове.
Ж.-Б. Леблон и его работы в Петербурге
Один из проектов планировки Петербурга (1716) разработал приглашенный Петром I французский архитектор Жан-Батист Леблон (1679–1719), которому царь даровал звание генерал-архитектора, т.е. главы над всеми архитекторами города. Королевский архитектор Леблон был уже прославлен во Франции и теоретическими трудами, и жилыми зданиями, предвосхищающими стиль Регенства (отель де Вандом, отель де Клермон с изысканной отделкой их интерьеров), и своим садово-парковым искусством. В Россию Леблон приехал в 1716 г. по протекции Петра Лефорта, заключив договор на пять лет с окладом в 5000 руб. годовых (столь высокий оклад имел ранее только Андреас Шлютер) и с массой обязанностей, в том числе по подготовке учеников. Он приехал со своей семьей и несколькими квалифицированными мастерами. И. Э. Грабарь так писал о Леблоне: «В противоположность фантазеру-романтику Шлютеру он принадлежал к числу тех трезвейших дельцов-практиков, которые смеются над всякими сентиментальностями. Типичный француз, живой, решительный, уверенный в своих исключительных талантах, а поэтому и очень самонадеянный, Леблон наделен был чисто французским умением соединять жизненную прозу и практический склад ума с огромным творческим размахом. Ибо он был художник совсем исключительного дарования…» (Грабарь И. Э. Петербургская архитектура в XVIII и XIX веках. СПб., 1994. С. 82).
В Петербурге главным делом Леблона было общее руководство строительством, организация повседневной работы и подготовка русских специалистов. Его мастерская стала центром всех строительных работ; кроме того, им был создан ряд новых мастерских – декоративной лепки, художественной резьбы, литейная, столярная и др. Леблон привлек к работе многих замечательных европейских мастеров, произведения которых до сих пор украшают наши дворцы; а рядом с ними работали молодые отечественные мастера, стяжавшие славу уже в середине века.
Блестящий архитектор, Леблон тем не менее не оставил в Петербурге ощутимого следа, ибо неожиданно умер в разгар множества начатых и задуманных дел. Он работал над дворцом в Стрельне («Стрелинский дворец», как часто писали в протоколах тех лет), но его проект не был осуществлен: мы знаем только его чертеж. Леблон внес существенные коррективы в проект Большого Петергофского дворца («Большие палаты») И. Ф. Браунштейна, сделав двусветным центральный зал – «салон по-итальянски»; создал проект Дубового кабинета и внес существенные изменения в декоративное решение павильонов Марли и Эрмитажа, но после его смерти заканчивал эти работы уже Николо Микетти. Леблон был автором проекта так называемого Адмиральского дома – дворца генерал-адмирала Ф. М. Апраксина, самого красивого, по мнению современников, дома во всем Петербурге. Руку Леблона исследователи (Н. В. Калязина) усматривают в рисунке двухмаршевой парадной лестницы вестибюля Меншиковского дворца, в архитектурно-декоративном решении его центрального зала и особенно Орехового кабинета.
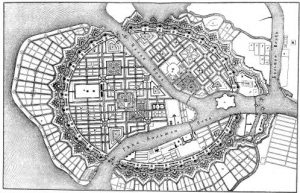
Леблону, как отмечалось выше, принадлежит генеральный план Петербурга, насчитывавшего к 1717 г. уже около 4500 дворов. Архитектор назвал этот план «Генеральный чертеж Санкт-Петербургу» (акварель, тушь). Особое место в нем отводилось крепостным укреплениям, шедшим по периметру овальной формы, которые образовывали Васильевский, Городской и Адмиралтейский острова. В основе плана лежала идея пересечения под прямым углом каналов «перспективами». В местах пересечения больших каналов подразумевалось устроить площади. Каждая часть города имела бы свои школы и церкви. Кладбища, богадельни и бойни Леблон вывел на окраины. Улицы предполагалось освещать фонарями, устраивать «добрые регулы» – уборку мостовых хозяевами и ежедневно вывозить мусор, что абсолютно необходимо для «публичного комодите».
Однако проекту не суждено было осуществиться, и не только из-за внезапной кончины архитектора, но и главным образом потому, что для этого потребовалась бы коренная ломка, уничтожение того, что уже было сделано. А. Д. Меншиков первый оказал сопротивление начавшемуся было рытью каналов на Васильевском острове, который по плану предполагалось сделать центром города. Кроме того, плану Леблона все-таки была свойственна некоторая абстрактность замысла. Его осуществлению препятствовали сложность местного рельефа и специфика климата. Хотя следует признать, что общий дух регулярности, заданный Леблоном, сохранился в петербургской архитектуре. Таким образом, автором реально осуществленного плана города фактически оказался сам Петр. Что же касается Леблона, то многие его блестящие идеи опередили время и были использованы позже. И как справедливо замечено, «унылые линии, тянущиеся от воды до воды, стали линиями жизни» (Анисимов Е. Время петровских реформ. С. 393).
Петр приглашал мастеров из разных стран: более всего немцев – А. Шлютера, И. Г. Шеделя, Г. И. Маттарнови, И. Ф. Браунштейна, Л. Т. Швертфегера, Н. Ф. Гербеля; итальянцев – Б. К. Растрелли, Н. Микетти, Г. Киавери, Д. Трезини (швейцарский итальянец); голландца С. Ван Звитена; француза Ж.-Б. Леблона. О стиле Петербурга петровского времени И. Э. Грабарь замечательно сказал, что хотя здесь работали итальянцы, французы, немцы, голландцы, сменяя друг друга часто даже в одном произведении, «физиономия Петербурга тем не менее не итальянская, не немецкая, не французская, не голландская, а – “петербургская”» (Грабарь И. Э. Петербургская архитектура в XVIII и XIX веках. С. 21).
Д. Трезини – первый архитектор города Петербурга
Главным архитектором города со времени его основания по праву можно назвать Доменико Трезини (ок. 1670 – 1734; в Петербурге с 1704). Родом из итальянской части Швейцарии, давшей России многих других знаменитых зодчих – от представителей семьи Фонтана до Руска, – Трезини как архитектор привнес в Россию мало итальянского. Четырехлетнее пребывание на службе датского короля в Копенгагене придало его искусству бюргерски-светский характер простоты и утилитаризма с особым «приморским» оттенком, что должно было, при отмечаемом всеми исследователями опыте, ясности и логичности инженерно-архитектурного мышления Трезини, очень нравиться Петру. Это привело к тому, что зодчий стал архитектором-распорядителем почти всех построек петровской поры самого различного назначения. Воздвигнутые под его началом крепости, церкви, дворцы, типовые жилища – здания достаточно суровые, простые и добротные, несущие отзвуки архитектуры протестантской Голландии и пуританской Англии: «Стиль Трезини, – отмечает Б. Р. Виппер, – это не голландский стиль, пересаженный на русскую почву, это петербургский вариант русского стиля раннего петровского времени» (Виппер Б. Р. Русская архитектура первой половины XVIII века // Архитектура русского барокко. М., 1978. С. 45).
Идея же колокольни со шпилем («шпицем»), несмотря на ее близость к формам североевропейской бюргерской архитектуры, была подсказана мастеру равнинным петербургским пейзажем, с одной стороны, и древнерусскими кремлевскими и монастырскими ансамблями – с другой; она явилась замечательной находкой художника, органично вписавшись в облик города и став неотъемлемым элементом в русской архитектуре.
Трезини исполнил важнейшие фортификационные работы: бастионы «главного детища» его творчества – Петропавловской крепости, уникальный форт Кроншлот с его «круговой обороной», первые гавани и верфи Петербурга (Партикулярная верфь, Галерная гавань на Васильевском острове). Со дня основания Канцелярии городовых дел (1706) он становится ведущим ее архитектором.

Трезини стал автором одного из генеральных планов Петербурга, согласно которому начали заселяться различные районы города «по линии вдоль улиц», по принципу сетки, восходящему еще к московской Немецкой слободе. Так постепенно создавался город «першпектив» и набережных Невы, отражающей первые здания Петербурга.
Петропавловский собор – доминанта города – одно из самых знаменитых

сооружений Петербурга и в наши дни (1712–1733, восстановлен после пожара 1756). Это базиликальная, трехнефная по композиции церковь со свободным, «зального характера» внутренним пространством (ширина 27,5 м, длина 61 м, высота до карниза 15 м). По плану Трезини собор был завершен в западной своей части высокой колокольней (106 м) с 34-метровым шпилем (1714–1724; во время пожара 1756 г. именно в нее ударила молния; полностью восстановлена). Оконченная по требованию Петра первой, за девять лет до освящения собора, колокольня представляет собой уже не привычный русскому глазу восьмерик на четверике, а единый, в несколько ярусов-этажей массив, напоминающий европейские колокольни или ратушные башни.
Истинный символ города – шпиль Петропавловского собора – повлек за собой другие городские доминанты. Светский характер общего облика Петропавловского собора, простота образного решения, место в контексте городского ансамбля – все это определило принципиальную роль произведения Трезини в ряду других памятников петровского времени. Интерьер храма высок, светел, убран живописными панно и золоченой резьбой. Резной иконостас, исполненный архитектором и скульптором Иваном Зарудным в Москве (1722–1726), похож на торжественную триумфальную арку. Однако Петру не суждено было его увидеть: через год после возведения колокольни императора отпевали в недостроенном еще соборе. Отныне не в Москве, в Кремле, а в Петропавловском соборе стали хоронить русских царей.
Трезини исполнил также Петровские ворота Петропавловской крепости (1707–1708 в дереве; 1717–1718 – переведены в камень), парадный въезд со стороны главной Троицкой площади в честь побед России в Северной войне. Ворота напоминают античную триумфальную арку с двумя нишами по сторонам. Для их украшения был приглашен скульптор Конрад Оснер. Он исполнил деревянный рельеф «Низвержение Симона волхва Апостолом Петром» и изображение Бога Саваофа в аттике, позже перенесенные на каменные ворота. Ниши украсили статуи Беллоны и Минервы (на деревянных воротах они назывались Вера и Надежда), приписываемые Никола Пино.
Предметом особого внимания Трезини был Васильевский остров и прежде всего его восточная оконечность – Стрелка, место слияния Большой и Малой Невы, – задуманная как административно-торговый и научный центр. Здесь архитектором были созданы не сохранившийся Мытный (позже Гостиный) двор и дожившее до наших дней здание Двенадцати коллегий (1722– 1742, закончено М. Г. Земцовым и К. Дж. Трезини). Оно обращено боковым фасадом к Неве, а главным – к Петропавловской крепости. Единое здание разделено на 12 ячеек-корпусов, коллегий, каждое с самостоятельной кровлей и ризалитом, соединенных единым коридором и галереями первого этажа, из которых до нашего времени сохранилась лишь одна. Пилястры композитного ордера, объединяющие два первых этажа, придают цельный характер всему зданию, одному из самых больших (протяженностью 392 м) в Петербурге в первой половине XVIII в.
Трезини строил и Летний дворец Петра в Летнем саду (проект – 1707; строительство – 1710–1712), простое прямоугольное двухэтажное здание с высокой кровлей. Стоящий на самом берегу у слияния Невы и Фонтанки, дом имел небольшой «гаванец» – бассейн, сообщавшийся с Фонтанкой и дававший возможность попадать в апартаменты прямо с воды (восстановлен в 2013). По фасаду Летний дворец украшен расположенными между окнами первого и второго этажей барельефами, исполненными вернее всего по эскизам А. Шлютера его командой. Здесь мы впервые встречаемся со знаменитым североевропейским архитектором и скульптором.
А. Шлютер и создание резиденции в Летнем саду
В Россию Андреас Шлютер (1664–1714) приехал в 1713-м, в последний год своей жизни (он умер через 11 месяцев). Он уже был известен и как архитектор (автор Берлинского дворца и Цейхгауза), и как скульптор (создатель памятника «Великому курфюрсту»), но познал и неудачи (с готовой рухнуть огромной водовзводной башней «Мюнцтурм»), В Россию он приехал с грандиозными замыслами, которые ему не суждено было осуществить. Некоторые исследователи считают, что Шлютер не только украсил барельефами Летний дворец, но и расширил его, а также работал над Гротом Летнего сада, который достраивали уже Г. И. Маттарнови и Н. Микетти: «Мятущийся, вечно ищущий дух этого загадочного человека – одного из самых великих, каких дала Германия, – манила радужная надежда найти “вечное движение”, не дававшее покоя стольким умам того времени. Ему, наконец-то нашедшему своего государя, царя-друга, способного коротать с ним ночи подле его машины, уже грезились счастливые дни, шедшие ему навстречу, дни, долженствовавшие положить конец его скитальчеству и, конечно, прежде всего поразить его берлинских врагов. Посреди этих надежд его надломленная жизнь внезапно пресеклась» (Грабарь И. Э. Петербургская архитектура в XVIII и XIX веках. С. 49–56).
Возвращаясь к Летнему дворцу, следует указать, что в его интерьере использованы новые приемы: изразцовые и деревянные панели, резные панно, лепка, живописные плафоны (подробнее об этом см. гл. 3). Но общий его облик скромен и уже очень далек от архитектурных форм и декоративных решений московских палат XVII в. Новшеством были и удобства, известные к тому времени, – водопровод (благо вода была кругом) и проточная канализация. Кстати, Ж.-Б. Леблон был новатором и в этой области.
Летний сад («Летний огород»), занимавший территорию нынешнего Летнего и Михайловского садов, со скульптурами, фонтанами и гротами являет собой пример одного из первых регулярных парков России. Он был заложен в 1704 г., на следующий год после закладки крепости. Над его созданием работали прежде всего сам Петр (известен чертеж «Осударева Огороду», исполненный им в Спа), И. Матвеев, Ж.-Б. Леблон, М. Г. Земцов и садоводы Я. Розен, И. Сурмин, Л. Лукьянов. В 1717–1724 гг. Петр скупал много скульптуры для Летнего сада у известных мастеров: П. Баратта, Д. Бонацца, М., П. и Дж. Гропелли, Д. Зорзони, О. Маринали, А. Тарсиа и др. Так, уже упоминавшаяся Венера Таврическая была помещена в центральной галерее северной стороны сада. Если верить камер-юнкеру Берхгольцу, Петр так дорожил этой скульптурой, что велел ее охранять: «С северной стороны, у воды, стоят три длинных открытых галереи, из которых длиннейшая – средняя, где всегда, при больших торжествах, пока еще не начались танцы, ставится стол со сластями. В обеих других помещаются только столы с холодным кушанием, за которые обыкновенно садятся офицеры гвардии. В средней галерее находится мраморная статуя Венеры, которую царь до того дорожит, что приказывает ставить к ней для охранения часового» (Берхгольц Ф. В. Дневник камер-юнкера Берхгольца, веденный им в России в царствование Петра Великого с 1721 по 1725 год. Ч. 1. С. 91).
В 1725 г. Михаил Земцов, первый русский зодчий, удостоенный звания архитектора, построил в саду у Невы «Залу для славных торжествований» (разобрана в 1732 при Анне Иоанновне). Непосредственным предлогом для ее строительства послужило предстоящее бракосочетание старшей дочери Петра Анны с герцогом Голштейн-Готторпским. Большой двусветный интерьер «залы» в 52 окна был украшен шпалерами и картинами в основном на батальный сюжет. Земцов также завершил отделку Грота по проекту Шлютера на берегу Фонтанки, введя модный тогда декор из раковин и цветных камней и «водяные затеи» (в начале XIX в. на этом месте Карл Росси построил «Кофейный домик»).
Меншиковский дворец и загородные резиденции. Стрельна. Петергоф. Ораниенбаум. Творчество Н. Микетти

Совсем новый тип дворцовой архитектуры представляет Меншиковский дворец на Васильевском острове, на самом берегу Невы (1710–1727; архитекторы последовательно Ф. Фонтана, И. Г. Шедель; перестроен; реставрирован в 1968–1981). Это трехэтажное здание на высоком цоколе, украшенное пилястрами, балконом, скульптурой на парапете, – одно из значительнейших каменных сооружений петровского Петербурга. Усадьба петербургского генерал-губернатора включала в себя старый деревянный дворец (часто использовавшийся Петром для празднеств и ассамблей, например свадьбы шута Якима), новый каменный дворец (единственный сохранившийся из ансамбля до наших дней), церковь, дом управляющего Соловьева и обширный регулярный сад позади новой постройки, простиравшийся почти до Малой Невы. Со стороны Большой Невы у главного входа нового дворца была сделана пристань.
В интерьере нового дворца были использованы лучшие достижения французской архитектуры: 11 типов сводов, сквозной

парадный зал второго этажа, анфиладное расположение комнат. Некоторые из комнат (до нас сохранилось четыре) были целиком облицованы голландскими или русского производства изразцами по голландскому образцу. Ореховые панно с резным золоченым орнаментом и живопись потолка украшали кабинет Меншикова – так называемую Ореховую комнату.
Рядом на Стрелке Васильевского острова было начато строительство совсем нового по своему назначению и архитектуре здания первого русского музея – Кунсткамеры (1718–1734). Ее, последовательно сменяя друг друга, строили Г. И. Маттарнови, Н. Ф. Гербель, Г. Киавери и М. Г. Земцов. Стоящее на берегу Невы в один ряд с Меншиковским дворцом здание Кунсткамеры венчает башня, предназначавшаяся для астрономических наблюдений. В

двусветных с хорами залах второго и третьего этажей размещались естественно-исторические коллекции и библиотека.
Одновременно с городскими усадьбами шло строительство загородных резиденций, в основном по берегу Финского залива: Подзорный дворец, Стрельна, Петергоф, Ораниенбаум (где Фонтана и Шедель строили для Меншикова Большой дворец). Дворец царя в Стрельне стал предметом первого в Петербурге архитектурного конкурса. В нем участвовали проекты Б. К. Растрелли и Ж.-Б. Леблона, который и одержал победу, а старший Растрелли с этого времени отказался от архитектурной практики и сосредоточился на искусстве скульптуры. Интересный замысел Леблона был осуществлен только в отношении парка с крестовым каналом (наподобие Версальского). Из-за смерти архитектора дворец был выполнен по проекту итальянца Николо Микетти (ок. 1675 – 1758, в Петербурге с 1718 по 1723). Проект был осуществлен в 1719–1726 гг., с 1721 г. строительство возглавил и довел до конца М. Г. Земцов. Микетти много работал также для парков Петергофа.
Общий облик Петергофа как ансамбля – с нижним и верхним парками, задуманными наподобие регулярного партерного парка Европы, более чем 130 фонтанами и каскадами, обилием скульптуры, с его Большим дворцом, Монплезиром и парковыми павильонами Эрмитаж и Марли – сложился и был воплощен целиком при Петре I. Ему же, по сути, принадлежал и весь замысел, и даже первый проект дворца – двухэтажных «Верхних палат», как его тогда называли, – и сложной системы фонтанов. Этому скромному дворцу (другое название, встречающееся в документах, – «Большие палаты»), возведенному сначала И. Ф. Браунштейном (1714– 1716), затем измененному по проекту Ж.-Б. Леблона (1716–1719) и достраивавшемуся уже Н. Микетти (1719–1723), суждено было быть перестроенным в середине века гениальной рукой Ф. Б. Растрелли. В 1723 г., по словам камер-юнкера Берхгольца, дворец выглядел так: «Главный корпус дворца состоит из двух этажей, из которых нижний только для прислуги, а верхний для царской фамилии. Внизу большие прекрасные сени с хорошенькими колоннами, а вверху великолепная зала, откуда чудный вид на море <…> С лицевой стороны дворца в нижний сад спускается тремя уступами великолепный каскад, который так же широк, как весь дворец, выложен диким камнем и украшен свинцовыми и позолоченными рельефными фигурами по зеленому полю. Он делает прекрасный вид. Нижний сад, через который, прямо против главного корпуса и каскада, проходит широкий и весь выложенный камнем канал, выполнен цветниками и красивыми фонтанами» (Берхгольц Ф. В. Дневник камер-юнкера Берхгольца… Ч. 1. С. 135) .

Хотя Петр и повелел, чтобы Петергоф был не хуже Версаля, петровское детище не является копией резиденции французских королей и вообще не имеет прямого аналога в Европе. Своеобразие и неповторимость его облика определяются прежде всего близостью к морю. Так, в изящнейшем Монплезире (1714–1723; архитекторы А. Шлютер, И. Ф. Браунштейн, Ж.-Б. Леблон, Н. Микетти) с его более чем простой архитектурой центрального корпуса, к которому с двух сторон примыкают галереи, заканчивающиеся боковыми «увеселительными павильонами» – люстгаузами, все направлено на подчеркивание связи с природой, с парком, с морем: одноэтажность здания, его большие двери и окна почти до земли. Даже его декоративная лепка и живопись плафонов едины по тематике – это ликующий гимн стихиям: воде, воздуху, земле, огню; временам года, дарам природы.
Эрмитаж (1721 – 1725) и Марли (1720–1730) были возведены также Браунштейном с

участием несколько позже Леблона. Привезенный в Россию А. Шлютером как простой чертежник Иоганн Фридрих Браунштейн (ок. 1680 – после 1728) именно на работах в Петергофе, Ораниенбауме, Кронштадте, на Саарской мызе превратился в добротного архитектора. В 1717–1724 гг. в 25 км к югу от Петербурга на Саарской мызе начал формироваться дворцовый ансамбль. Это была первая настоящая каменная дворцовая постройка по проекту Браунштейна с регулярным садом, просуществовавшая до 1740-х гг.
Частное жилое строительство
В Петербурге много внимания уделялось частному жилому строительству. С 1714 г. после первой крупной морской победы при Гангуте Петр I с новым рвением начинает строить Северную столицу – в камне и только в камне, чтобы она не страдала от пожаров, как древнерусские города. Для этого даже были изданы указы о запрещении каменного строительства во всех городах, кроме Петербурга; о принудительном переселении части жителей из губерний в столицу; о запрете деревянных строений на Санкт-Петербургском и Адмиралтейском островах, по берегам Невы и их замене мазанками, которые должны были обеспечить скорое придание столичного облика «городу-парадизу». Чтобы заставить мастеров строительных специальностей переезжать на берега Невы, в 1718 г. было запрещено строительство в монастырях.
Канцелярией городовых дел, возглавляемой Д. Трезини, по его и Ж.-Б. Леблона проектам намечалось возведение с помощью деревянных каркасов с забутовкой из глины и щебня мазанковых зданий. Трезини разрабатывал в основном проекты одноэтажных домов; двухэтажные дома для богатых строились по проекту Леблона. Первая парадная застройка возникает на набережных Невы. Из сохранившихся домов 1710-х гг. можно отметить дом маршалка Соловьева, управляющего князя Меншикова, расположенный на Васильевском острове (ныне – часть здания филфака Санкт-Петербургского университета).
Мазанковое строительство было как бы переходной формой к каменному. Дома дифференцировались по имущественному цензу, но и в этих рамках были обязательные типы застроек; отсюда и обычное их название – «образцовые», т.е. типовые. Дома, которые теперь выходили фасадом не во двор, а на улицу, вместе с воротами и оградами создавали единую линию улиц и набережных. Одинаковые размеры жилищ обусловливались стандартной величиной розданных участков (10, 12, 20 саженей по фасаду). Образцовый проект дома Леблона нашел интересное применение в композиции дворца царицы Прасковьи Федоровны, став двумя связующими звеньями между богато украшенными ризалитами.
Выдвинутое требование застройки улиц «сплошной фасадою», т.е. вплотную один к другому, так чтобы высота карнизов и основных архитектурных членений совпадала, нашло одно из ранних применений в здании мазанковых Коллегий на Троицкой площади, а затем было повторено в здании Д. Трезини на Васильевском острове. В петровское время практиковалось соединение разных домов под одним фасадом, что делало общую застройку более монументальной. Въезд во внутренний двор осуществлялся со стороны переулка; иногда со стороны улицы на уровне цокольного этажа устраивался сквозной проход. Участки, выделяемые под застройку, в основном имели форму вытянутого прямоугольника с короткой стороной в 10 саженей, на которой должен был быть построен дом; остальное пространство отводилось под двор, окруженный по периметру хозяйственными постройками.
Но были и нетиповые здания, создававшиеся по оригинальным чертежам. Так, дом адмирала Ф. М. Апраксина был построен по чертежу Ж.-Б. Леблона на месте нынешнего Зимнего дворца. При ведении строительства по желанию заказчика в проект были внесены изменения: надстроен третий этаж по всему зданию, оконные проемы упрощены, а главное – несколько изменена стилистика (появился огромный барочный картуш с гербом владельца и фигурные фронтоны ризалитов наподобие дворца Меншикова). По-видимому, классическая строгость французского мастера не удовлетворяла полностью амбициям боярина, воспитанного на пышности московского зодчества и в то же время не желавшего отставать от моды. Во внутреннем декоре использовались живопись, ленка, роспись под мрамор, зеркала, хрустальные люстры. Однако даже такие дома имели некий единый прообраз, «архетип»: примерно одинаковые размеры (13–15 окон по фасаду), трехчастную объемную композицию, внешний декор в виде пилястр и рустованных лопаток по углам. Крытые галереи со стороны двора представляли собой отзвук старомосковской архитектуры, но, как верно отмечают исследователи, эти «гульбища» были вполне уместны во влажном петербургском климате.
Стремление придать единство облику города требовало принятия специальных административных мер. Ответственность за возведение городской застройки первоначально была возложена на образованную в 1706 г. Канцелярию городовых дел, а вся строительная деятельность постоянно регламентировалась императорскими указами. На клеймах к панораме Алексея Зубова именно такими, застроенными в красную линию, мы видим набережные Большой Невы, Красного канала и др.
Так постепенно складывался Петербург – на болотах и многочисленных островах; испытываемый ветрами Балтики и наводнениями; расположенный вдали от старых русских центров, но неуклонно растущий, казалось бы, вопреки всякой логике. Центром города становится материковая Адмиралтейская сторона, где от башни со шпилем тремя лучами отходили Невский и Вознесенский проспекты и возникшая несколько позже Гороховая улица. Построенный в нечеловечески трудных условиях, к 1720-м гг. Петербург имел уже свой неповторимый облик. Петр I любовно называл его «Парадизом», а иностранцы – “Северной Венецией”, что «со временем будет и справедливо, – писал брауншвейгский посланник Фридрих Вебер, – за исключением, разумеется, климата» (Вебер Ф. Записки Вебера о Петре Великом и его преобразованиях // РА. 1872. С. 1425).
Особенности архитектуры петровского времени. Проблема стиля
Освоение общеевропейских стилей протекало в России в XVIII в., особенно в его начале, ускоренно, и, как справедливо замечено исследователями, уже в петровскую эпоху существовали зачатки всех стилей (как будто русское искусство примеряло на себя разные одежды), иногда совмещая черты и барокко, и рококо, и классицизма. Помимо стилевого многообразия, благодаря приглашенным иностранным мастерам существовало и разнообразие национальных манер, различных школ, наконец, различие в качестве исполнения, что тоже немаловажно. Рассуждая о стиле петровской архитектуры, справедливо отметить, что ранний Петербург явно тяготеет к суровым и строгим голландско-немецким бюргерским вкусам. Исследоваетель в этой связи отмечает: «Голландскую и отчасти английскую ориентацию диктовали Петру и его демократические симпатии, и его рационализм, и его увлечение бюргерской расчетливой индивидуалистической, утилитарной культурой, увлечение, которое уживалось у Петра с тенденцией к абсолютистской регламентации строительства» (Виппер Б. Р. Русская архитектура первой половины XVIII века // Архитектура русского барокко. С. 43).
Первоначальная ориентация на северную архитектуру прекрасно проиллюстрирована в письме царя к архитектору И. К. Коробову: «Иван Коробов! Пишешь ты, чтоб отпустить тебя во Францию и Италию для практики архитектуры цывилис. Во Франции я сам был, где никакого украшения в архитектуре нет и не любят, а только гладко и просто и очень толсто строят, и все из камня, а не из кирпича. О Италии довольно слышал; тому ж имеем трех человек русских, которые там учились и знают нарочито. Но в обоих сих местах строения здешней ситуации противныя места имеют, а сходнее Голландския. Того ради надобно тебе в Голландии жить, а не в Брабандии, и выучить манер Голландской архитектуры, а особливо фундаменты, которые нужны здесь: ибо равную ситуацию имеют для низости воды, также и тонкости стен. К тому ж огородам [садам] пропорций, как их размерять и украшать, как леском, так и всякими фигурами, чего нигде в свете столько хорошаго нет, как в Голландии. И я ничего так не требую, как сего» (Труды и летописи ОИДР. М., 1837. Ч. XVIII. С. 21–22).
Однако к концу жизни Петра наблюдается уже явственное тяготение к более нарядным, праздничным формам французского барокко. Точнее было бы сказать, что в русской архитектуре происходит слияние европейских стилистических приемов. С одной стороны, бюргерски-рассудочного северного барокко – через Д. Трезини (строгая симметрия и уравновешенность композиции, сдержанность декора). С другой стороны, изящного придворноаристократического стиля – через Ж.-Б. Леблона (изысканность декоративных деталей при всей их сдержанности, приверженность к высоким мансардным кровлям). И все это соединяется с древнерусскими традициями, прежде всего нарышкинского стиля, сказавшимися хотя бы в многоцветий окраски зданий.
Не только в архитектуре, но и в других сферах происходило «выравнивание» (термин Б. Р. Виппера) русской художественной культуры, в результате чего постепенно создавался национальный стиль русского барокко. Задача этого «выравнивания» выпала в большой мере на долю петровских пенсионеров. Собственно, смена вкусов стала заметна даже раньше, на примере творчества первого архитектора Петербурга Д. Трезини: от строгих и лаконичных форм своих «образцовых» домов он приходит к почти барочной экспрессии в формах колокольни Петропавловского собора, сохраняя при этом, однако, строгую симметрию масс и уравновешенность композиции. Мы уже отмечали, что термин «петровское барокко» нужно понимать как очень условный. Ведь истинное русское барокко, соответствующее и параллельное общеевропейскому стилю, но сумевшее сохранить свою национальную окраску, связь с национальным прошлым, все-таки относится к архитектуре середины столетия и связано с именем Ф. Б. Растрелли и его окружением.
Так или иначе, но с 1720-х гг. Петербург стал играть первенствующую роль в развитии светского, гражданского зодчества. За ним шла Москва. Провинция, как верно замечено исследователями, реагировала на новшества медленнее и более осмотрительно, оглядываясь на художественные заветы старины. На Урале, в Сибири в 1700–1730-е гг. храмы строятся в рамках московской нарышкинской стилистики.
Монументально-декоративная живопись петровского времени
Решительный переход от старого к новому, труднейший процесс освоения в самый короткий срок языка мировой культуры и приобщение к европейскому опыту особенно заметны на материале искусства петровского времени. Расшатывание художественной системы древнерусской живописи произошло, как уже отмечалось, еще в XVII в. С начала XVIII в. главное место в живописи начинает занимать картина маслом на светский сюжет. Новая техника и новое содержание вызывают к жизни свои специфические приемы, свою систему выражения. Однако новая техника маслом на холсте характерна не только для станковой живописи: она проникла и в ее монументально-декоративные формы. В связи со строительством Петербурга и загородных резиденций царской семьи и приближенных ко двору сановников получает развитие монументальная живопись плафонов и настенных панно. Монументально-декоративная живопись широко использовалась также в массовых празднествах, театральных представлениях, парадах, торжественных шествиях войск, иллюминациях в честь «викторий», для чего сооружались триумфальные арки и пирамиды, обильно украшенные не только скульптурой, но и живописью.
Проблема сохранности и реставрации памятников монументально-декоративной живописи петровского времени
К сожалению, именно монументальная живопись XVII1 в., особенно его первой половины и более всего – петровского времени, сохранилась хуже, чем живопись станковая: временные деревянные сооружения в виде триумфальных арок или пирамид исчезали сами собой, здания не раз перестраивались, живопись подновлялась, меняла свой образ или вовсе погибала волею времени и людей. В силу указанных обстоятельств проблемы монументально-декоративной живописи петровского времени оставались, может быть, одними из самых неразработанных в отечественном искусствознании. Лишь в последние десятилетия XX в. появился ряд обобщающих трудов по данной теме. Это прежде всего работы Б. Ф. Борзина «Росписи петровского времени» (Л., 1986), Н. В. Калягиной и Г. Н. Комеловой «Русское искусство петровской эпохи» (Л., 1990), в которых помимо обширного изобразительного и архитектурного материала авторы использовали результаты исследований и открытий, связанные с реставрационной деятельностью. Сюда же можно отнести и более позднюю монографию Е. А. Тюхменевой, специально посвященную триумфальным воротам первой половины XVIII в. в России как синтезу искусств (М., 2005).
Монументально-декоративная живопись петровской поры – одна из самых эфемерных областей отечественного искусства XVIII в., ибо мы знаем о ней больше по описаниям, чертежам, немногим сохранившимся гравюрам и акварелям, нежели по дошедшим до нас образцам. Это прежде всего относится к живописи триумфальных ворот. Исполненные из дерева, они, к сожалению, не дошли до нас, и мы составляем впечатление об их облике по сохранившимся литературным и графическим источникам – документам, мемуарам, чертежам, эскизам, гравюрам. В частности, благодаря гравюрам 1710 г. мы представляем, как входили в Москву после победы в Полтавской битве русские войска (Триумфальные ворота А. Д. Меншикова в Москве в честь Полтавской победы. И. Зарудный, 1709; того же года и по тому же поводу Триумфальные ворота, созданные «на средства именитого человека Григория Строганова» в Москве; Триумфальные ворота «трудами школьных учителей», видимо, по проекту того же Ивана Зарудного, и пр.). В последнее время обнаружены и некоторые рисунки к живописи триумфальных ворот (например, А. Матвеева к Аничковским воротам, 1732, БРАН).
Триумфальные ворота: аллегорический язык их декора, смешение античных и христианских сюжетов
Триумфальные арки принято было воздвигать в честь какого-либо выдающегося события: в петровское время так отмечались главные «виктории» (Полтавская баталия, Ништадтский мир и др.); во время правления Анны Иоанновны и Елизаветы Петровны они строились в основном по поводу коронаций, тезоименитств и т.п. В честь въезда в Петербург Анны Иоанновны в 1732 г. после коронации соорудили даже несколько ворот: Адмиралтейские (у пересечения «Невской першпективы» со стороны Адмиралтейства и реки Мьи, как называлась тогда Мойка) и Аничковские (через «Невскую першпективу» недалеко от Аничкова дворца, но по другую сторону моста). Подновленные или вновь созданные Аничковские и Адмиралтейские ворота встречали и Елизавету Петровну после коронации в Москве, и их изображения в гравюрах преподносились ей в коронационном альбоме. В Москве по этому же поводу сооружались Тверские, Мясницкие, Яузские ворота (архитектор двух последних М. Г. Земцов).
При сооружении ворот составлялись и тщательно разрабатывались специальные программы, обсуждавшиеся в Синоде; затем делались рисунки и эскизы, которые также контролировались. В петровское время окончательный литературный вариант подписывал вице-президент Синода Феофан Прокопович, а утверждал сам царь (как и рисунки-эскизы). Причем заказчиками ворот могли быть разные сословия, а не только государство. Например, «Ворота школьных учителей» были исполнены по заказу Славяно-греко-латинской школы. Могли быть и единичные заказчики ворот, как А. Д. Меншиков или Г. Д. Строганов (1709), о чем говорилось выше. Триумфальные ворота строили обычно ведущие архитекторы (И. П. Зарудный, Д. Трезини, М. Г. Земцов), украшали их известные скульпторы (К. Оснер, Н. Пино), исполнителями живописи были многие русские мастера, иконописцы Оружейной палаты, живописцы Гр. Адольский, Р. Н. Никитин, А. Матвеев, из иностранцев – Л. Каравак.
Триумфальные ворота являли собой блестящий синтез почти всех видов искусств: архитектуры, скульптуры (иногда в несколько десятков фигур), живописи, всевозможных световых и цветовых эффектов. Фонарь, венчающий арку, как правило, по главному фасаду украшали портретом царствующей особы. Скульптурные и живописные аллегории прославляли самодержца или событие, в честь которого арка была воздвигнута. Общее впечатление торжественности, праздничности усиливалось цветом: скульптуры раскрашивали, облачали в античные тоги, живопись строили на сочетании крупных цветовых пятен с расчетом на «смотрение» с расстояния.
Изобразительный язык декора триумфальных ворот – язык аллегорий и символов (почерпнутых в основном из книги «Символы и Эмблемата», изданной в 1705 г.), которым прославлялись русские победы и русское государство. Эта символика достаточно наивна и прямолинейна. Например, в Меншиковских воротах сам Меншиков подносит Петру свое пылающее сердце; Нептун запрещает ветрам дуть на Кронштадт, а в образе разбившегося Фаэтона легко прочитывается аллюзия с Карлом XII и т.д. К воротам Большого Каменного моста в Москве в 1696 г. в честь взятия Азова (известным по гравюре П. Пикарта) помимо огромных резных фигур Геркулеса и Марса было приставлено два живописных панно с изображением морского боя и надписями. На одном надпись гласила: «На море гурки поражены, оставя Москве добычу, корабли их сожжены», на другом: «Москва огарян побеждает, на многие версты прехрабро погоняет».
Аллегории, связанные с христианскими героями, характерные для искусства XVIII в., хорошо уживались в живописи триумфальных ворог с целым сонмом античных богов и богинь. Геркулес и Беллерофонт, Персей и Андромеда дружественно соседствовали с Георгием Победоносцем или архангелом Михаилом. В петровское время излюбленными героями становятся Александр Македонский (с ним недвусмысленно сравнивают Петра), Зевс, Марс, Геркулес; из библейских – Давид (Карл XII, следовательно, подразумевался под Голиафом). В отечественной истории особым вниманием отмечен Александр Невский. Поверженный лев – символ терпящей поражение Швеции (подробнее о триумфальных воротах см.: Тюхменева Е. А. Искусство триумфальных врат в России первой половины XVIII века. Проблемы панегирического направления. М., 2005).
Следует отметить, что именно на триумфальных воротах впервые появляются исторические и батальные композиции. И именно здесь, как правило, действуют конкретные исторические персонажи (Петр, Карл XII, А. Д. Меншиков), предстающие в современных одеждах и даже наделенные некой психологической характеристикой, в определенной реальной среде – на море, на поле боя, под стенами крепостей, что делает такие изображения, по сути, первыми историческими полотнами.
Живопись и скульптурное убранство триумфальных арок по поводу коронаций и тезоименитств в середине XVIII в. становятся все сложнее и богаче – в полном соответствии с барочной архитектурой и ее декором. Вместе с тем в них утрачиваются гражданственная программность и назидательность, рационалистическая сдержанность, свойственные тому стилю, который мы условно называем «петровским барокко».
Московские и первые петербургские дворцовые интерьеры
О росписях интерьеров первой трети XVIII в. мы также знаем только по чертежам и акварелям. Скажем, о декоре центрального зала дворца Ф. М. Апраксина («Адмиральский дом»), его украшении к свадьбе старшей дочери царя, Анны Петровны, с герцогом Голштинским мы узнаем из рисунка X. Л. Бернера (1725, Стокгольмский Национальный музей; подробнее см.: Калязина Н. В., Комелова Г. Н. Русское искусство петровской эпохи. Л., 1990. С. 67). В его отделке принимали участие отец и сын Растрелли. Живопись здесь соседствовала с лепкой, росписью под мрамор, фантастически преломляясь в хрустальных люстрах и зеркалах. В этом дворце новобрачные жили после свадьбы, а в 1732 г. он вошел в комплекс зданий нового Зимнего дворца Анны Иоанновны. Только по документам мы знаем о живописи домов У. А. Сенявина и князей Репниных на Васильевском острове, Феофана Прокоповича на Карповке и др.
В Петербурге и его окрестностях из произведений монументально-декоративной живописи петровского времени сохранилось очень немногое. К тому же это немногое пострадало во время Великой Отечественной войны и предстает перед нами в восстановленном виде как итог настоящего трудового и творческого подвига огромного коллектива художников-реставраторов, архитекторов, историков искусства. Это росписи Меншиковского и Летнего дворцов в Петербурге, Монплезира, Вольера в Петергофе.
Говоря о монументально-декоративной живописи, невозможно не затрагивать интерьер в целом, частью которого эта живопись является. О светском интерьере Москвы и Подмосковья мы знаем в основном по архивным описям царских хором, изображениям на гравюрах или воспоминаниям современников. Это немалый период, охватывающий два последних десятилетия XVII – первое десятилетие XVIII в., поскольку, как известно, настоящее строительство Петербурга начинается с 1714 г., когда указом Петра прекращается каменное строительство в Москве и других городах.
В Москве в последней трети XVII в. восстанавливается и расширяется несколько старых дворцов: Золотая палата Теремного дворца, Грановитая палата в Кремле, расширяются Коломенский и Измайловский, возводится Воробьевский дворец. Но судить мы можем лишь о Лефортовском дворце (1697–1699; арх. Д. Аксамитов). В его интерьере соединились и старые древнерусские черты, и новые, которым предстояло потом развиться в Петербурге, что прежде всего выразилось во включении жилых помещений в общую четкую симметричную структуру. Соответственно старой традиции в Лефортове главными остаются две палаты – Столовая и Спальная (Постельная). Вид Столовой (Парадной) палаты для нас сохранила гравюра Адриана Шхонебека (1702), изображающая свадьбу шута Феофилакта Шанского.
Помимо своего прямого назначения Столовая палата служила в Древней Руси местом приема послов, различных торжеств и даже театральных представлений (см.: Евангулова О. С. Светский интерьер Москвы и Подмосковья конца XVII – начала XVIII в. // Русский город. Москва и Подмосковье. Вып. 4. М., 1981. С. 110–120; Пронина И. А. Терем. Дворец. Усадьба. Эволюция ансамбля интерьера в России конца XVII – первой половины XIX века. М., 1996). На гравюре мы видим торжественный, праздничный, «велеречивый» интерьер: затянутые тканями стены, затейливую подволоку, «изращатые» печи, золоченые шандалы, шпалеры, большие иконы (которые как бы уравнены в своей декоративной роли с портретами на стенах). Еще более мирской характер носит Угловая палата (также гравюра Шхонебека) с обилием зеркал и шпалер. В петербургский период русской истории, когда Лефортовский дворец был подарен царем А. Д. Меншикову (и стал называться Слободским), он был перестроен, а интерьер перенасыщен роскошными «восточными» вещами, входящей в моду «китайщиной».
Верна старой традиции и усадьба в Преображенском – любимый дворец Петра I, с которым, однако, связаны и невеселые страницы петровской истории: здесь вершил суд Ромодановский, глава страшного Преображенского приказа, здесь веселился и буйствовал малопочтенный «Всешутейший собор». Сопрягая все литературные и исторические источники, исследователи восстанавливают картину интерьеров дворца: комнаты, похожие на шкатулку, стены, убранные камкой, обилие не только «завес» (занавесей), но и зеркал, портретов, личных вещей Петра (излюбленных им компасов, астролябий и пр.).
Московская традиция украшения интерьера отжила не сразу. Она отразилась и в интерьере первого каменного Зимнего дворца в Петербурге. На гравюре Алексея Зубова (1712), изображающей свадебный пир Петра и Екатерины, центральный зал тоже напоминает шкатулку. Он украшен великолепными шпалерами, резьбой и лепниной, фигурными зеркалами, сложной формы паникадилом из слоновой кости и черного дерева, выточенным самим Петром. Кстати, замена тканой обивки стен и расписной подволоки потолка штукатурной отделкой и даже лепниной и штуком происходит еще в московской, вернее, подмосковной архитектуре (усадьба А. Д. Мепшикова в Алексеевском под Москвой).
На другой гравюре А. Ф. Зубова (1711), изображающей свадьбу шута Волкова, которая происходила в «Посольском доме» А. Д. Меншикова в Петербурге (деревянных хоромах на Васильевском острове), мы видим в интерьере те же узорчатые штофные ткани на стенах, обилие стенников со свечами (осветительных приборов), большое количество портретов в рамах на боковых стенах, с которыми как бы соперничают по своей декоративной роли две огромные иконы на входной стене – «Распятие» и «Вознесение Христово». Так постепенно, в сложном переплетении старого и нового формировался дворцовый интерьер рождающегося на берегах Балтики столичного города.
В петровской архитектуре дворцов необходимо отметить появление совсем новых по назначению комнат, незнакомых ранее. Это танцевальные залы, кабинеты: Дубовый кабинет Петра в Большом Петергофском дворце, Ореховый кабинет в Меншиковском дворце; кабинеты «древностей», или «редкостей»; Лаковые кабинеты (в период увлечения «китайщиной» и «японщиной») и пр. Это и специальные парадные комнаты – Парадная спальня, даже Парадная кухня; уборные комнаты (гардеробные) и т.д. Каждая из них требовала своего убранства.
Меншиковский дворец. Ореховый кабинет
Интерьер петербургских дворцов петровского времени, четко проводящий принцип регулярности и практичности в архитектуре и тематичности в живописи, остается верен ставшей уже традиционной декоративности и праздничности убранства в целом.
Летний дворец Петра I в Летнем саду. Появление новых по назначению интерьеров. Тематика росписи и особенности композиции и техники
Обращаясь конкретно к памятникам монументально-декоративной живописи петровской поры, возьмем хронологически как будто самый ранний комплекс (хотя все они близки по времени) – Летний дворец Петра в Летнем саду. Его живопись представляется наиболее характерной для петровской эпохи. Тема росписей одна: с помощью символов и аллегорий, столь излюбленных в ту эпоху, прославляется героическое время и прежде всего государственная власть, внушаются идеи патриотизма. Впервые тема побед России в Северной войне, ее увековечение явилось здесь в синтезе с архитектурно-художественным образом в целом.
Прекрасный декор экстерьера Летнего дворца исполнен, вероятнее всего, по эскизам самого А. Шлютера. Это намазные скульптурные рельефы между окнами (о них речь пойдет в гл. 5), барельеф «Минерва, окруженная воинскими трофеями» на южном фасаде и деревянное панно, изображающее Минерву как хранительницу дома, с совой (символом бдительности), в вестибюле и т.д. Однако первоначальная живописная отделка интерьера сохранилась только в Зеленом кабинете и во второй Приемной.
Декоративные работы в Летнем дворце начались рано: в 1713– 1714 гг. Русские мастера А. Захаров, П. Заварзин, Ф. Матвеев расписывали (по дереву) стены Зеленого кабинета. Росписи относятся еще к стилистике XVII в. – орнаменты, фантастические птицы, маски, а также излюбленный мотив корзин с цветами в наддверных панно.
Плафоны Летнего дворца (их семь) исполнены уже в конце 1710-х – 1720-е гг. Плафон Приемной «Триумф России» выполнен в 1719 г. Георгом Гзелем, швейцарцем по рождению, получившим образование в Вене, и работавшим в Амстердаме, где его и увидел Петр. «Триумф» олицетворяется тремя женскими фигурами в окружении амуров и в сопровождении атрибутов, прославляющих государство. Центральная фигура опирается на земную сферу, это образ Могущества правителя; фигура с крестом – Религия, с колосьями – Плодородие.
В центре плафона Столовой, являющего собой настоящий гимн самодержавной власти и воинским победам, изображен портрет Петра I. В остальных комнатах сюжеты плафонов следующие: в Кабинете – «Торжество Минервы», в Тронном зале – «Триумф Екатерины» (также исполнен Гзелем), в Спальне – «Торжество Морфея», в Детской – «Мир и Спокойствие» (также близко к Гзелю по стилистике и колориту). Манеру Гзеля напоминают и аллегории четырех частей света (фигуры Европы, Азии, Африки, Америки) в овальных медальонах Зеленого кабинета.
Летний дворец Петра I. Зеленый кабинет. 1714–1720-е
Особенность плафонов Летнего дворца в том, что они не занимают весь потолок, а являются как бы картинами-вставками. Они и исполнялись станковым способом – внизу, а затем вставлялись в потолок. По технике они также отличаются, например, от росписей дворца А. Д. Меншикова: это не темпера по штукатурке, а масляная живопись на холсте, натянутом на подрамник (что в Меншиковском дворце было обнаружено только в верхнем слое плафона Орехового кабинета).
Трактовка сюжетов в плафонах типична для петровского времени: здесь нет конкретных персонажей (за редким исключением), их язык аллегоричен и символичен. Так, если в одном из плафонов (Столовой) мы видим портрет Петра, то он введен в аллегорическую композицию и вполне отвечает отвлеченному языку в целом.
Меншиковский дворец. Особенности росписи плафона Орехового кабинета: три слоя живописи, вопросы авторства. Общая концепция декора дворца
В другом замечательном памятнике – Меншиковском дворце – наиболее ранний образец монументально-декоративной росписи петровского времени представляет плафон Орехового кабинета (комната украшена набранными из орехового дерева панно, отсюда и ее название). Плафон писался несколько раз. Первый и второй слои – темперно-масляная техника по штукатурке и гризайль, тоновая живопись.
В первом слое (1711–1712) в центре композиции обнаружено самое раннее изображение: на фоне черно-багрового неба воин со щитом и мечом, опирающийся на «Книгу Марсову», посвященную воинскому искусству побеждать (в ее создании активное участие принимал Петр). Среди атрибутов сражения (некоторые исследователи видят в нем Полтавский бой, а в фигуре воина усматривают даже черты самого Петра) видны ядра, пушки, полковые знамена, попранные знамена врагов, барабан, трубы, пороховые бочки. Все это создает некий романтический ореол. У Марса, как иногда называют воина, отсутствует агрессивность, его мужественное лицо кажется скорее усталым. Современные исследователи находят аналог этому образу не в античном, а в древнерусском искусстве и сравнивают воина с архангелом Михаилом в настенных росписях Смоленского собора Новодевичьего монастыря в Москве и в Успенском соборе Троице-Сергиевой лавры (подробнее см.: Борзин Б. Ф. Росписи петровского времени. Л., 1986). Автор росписи неизвестен. Архивные документы называют нам имена исполнителей: А. Захаров, братья Адольские, Д. Соловьев, другие мастера, но руководитель и автор «инвенций» не назван.
Меншиковский дворец. Гр. Адольский «со товарищи» (?). Марс. Ореховая комната. 1711-1712
Фигура воина расположена в центре плафона, а по углам – эмблемы, столь знакомые мастерам XVIII в. по книге «Символы и Эмблемата», и сопровождающие их девизы привычного для петровской эпохи назидательно-просвстительского толка («Согласие приносит победу», «Где правда и вера, тут и сила прибуде» и др.). Исследователи считают, что эта роспись также была выполнена отечественными мастерами – Гр. Адольским «со товарищи» в 1711 – 1712 гг.
Второй слой (1715–1716) представляет собой композицию с амурами, гирляндами цветов и декоративными вензелями, над которой трудились русские мастера А. Захаров и Л. Федоров, возможно, под началом Л. Каравана: легкие широкие мазки напоминают его роспись в Вольере и Монплезире в Петергофе.
Третий слой – более поздний (1717–1719; некоторые считают датой его завершения даже 1722). Этот чисто орнаментальный, с розеткой в центре и гротескными мотивами плафон исполнен Филиппом Пильманом (1684–1730), художником из семьи потомственных лионских мастеров-декораторов, учеником Клода Жилло, у которого учился в свое время и Антуан Ватто. В Россию Пильман приехал по персональному вызову Ж.-Б. Леблона в 1717 г. Среди гротесков и растительных мотивов в плафоне появляются женские головки, в которых некоторые исследователи усматривают сходство с дочерьми Меншикова. Плафон исполнен в изысканной гамме красно-коралловых и оливково-зеленых тонов на золотом фоне (хранится в Эрмитаже). Локальные красные и голубые цвета с черным и желтым в первом слое плафона свидетельствуют о еще живых традициях XVII в. Любопытно, что роспись первого слоя с воином была обнаружена и стала известна только в процессе реставрации Меншиковского дворца в 1960-е гг., так как еще при жизни и Петра, и Меншикова роспись была закрыта живописью на подрамнике, исполненной Пильманом в масляной технике на холсте. Фигура воина в результате всех переделок была просто забелена.
Исследователи справедливо усматривают в мотивах плафона Секретарской комнаты общность с элементами декора фасада Меншиковского дворца, различимыми на гравюре Алексея Зубова «Вход с моря с триумфом» (1714), и убранства триумфальной арки, построенной недалеко от усадьбы Меншикова прямо на льду в январе 1712 г., о котором мы также имеем представление по гравюре А. Ф. Зубова 1711 г. (подробнее об этом см.: Жаркова И. Ю. Сюжет плафона «Секретарской» дворца Меншикова и его связь с искусством Петербурга первой четверти XVIII века // Петербургские чтения (к юбилею города). СПб., 1992. С. 116–119).
Говоря об убранстве Меншиковского дворца, не следует забывать, что его декоративный строй составляли не только живопись и скульптура, но и исполненные по голландскому образцу или просто голландские по происхождению плитки, а также ткани, лепнина, мрамор и роспись под мрамор, фарфоровые сервизы, привозная мебель. В этот декор вплетались монограммы Меншикова и Петра (в решетках лестницы второго этажа), элементы ордена Андрея Первозванного и др. Все играло свою роль – вплоть до золотых и серебряных нитей костюмов и золоченых шляпок гвоздей на сиденьях стульев. Это была «целая летопись эпохи с рассказом о жизни конкретных людей и страны, о славе и мечтах, о трудной борьбе, утверждении идеалов светской жизни и политике государства, о дружбе Меншикова и Петра I, о завоеванных Россией победах». Здесь воплотился «один из важнейших принципов ансамбля дворцового интерьера петровского барокко – тематический принцип, содержательная концепция» (Пронина И. А. Терем. Дворец. Усадьба. С. 45–46).
Монплезир Петергофа: живопись и декоративная резьба Ассамблейного зала. Античные мотивы. Декор галерей. Роспись Л. Каравака в Вольере. Дубовый кабинет Большого Петергофского дворца
Из пригородных резиденций самые ранние росписи находятся во дворце Монплезир в Петергофе. Построенный, как отмечалось ранее, последовательно И. Ф. Браунштейном, Ж.-Б. Леблоном и Н. Микетти в течение десятилетия, с 1714 по 1723 г., Монплезир уже в процессе сооружения стал украшаться живописью и резьбой. Центральную его часть, Ассамблейный зал, фланкировали с одной стороны Секретарская, Спальня и Морской кабинет, с другой – Лаковый кабинет, Кухня и Буфетная. Галереи завершались павильонами-люстгаузами. Все апартаменты были декорированы. Плафон Ассамблейного зала выполнен Ф. Пильманом в 1718 г. Четыре парные группы скульптур, изображающие аллегории времен года, поддерживают замечательный купольный потолок, украшенный плафоном. Авторство скульптур, выполненных из алебастра, до сих пор не установлено (А. Шлютер? Н. Пино?). Живопись плафона находится в полном единении с декоративной лепкой и деревянной резьбой. Это гимн стихиям, временам года, всем земным дарам – аллегорическое выражение радости бытия.
Центральная фигура плафона – Аполлон. В падугах изображены четыре стихии: северная – Вода, наиболее динамичная композиция с Нептуном, Амфитритой и Нереем; южная – Огонь («Кузница Вулкана»); восточная – Земля (трехфигурная композиция с Церерой); западная – Воздух, аллегорией которого выступает Юнона. Все демонстрирует прекрасное знание античной мифологии. Остальные панно также приписываются Ф. Пильману. Центральный плафон Секретарской – «Торжество Вакха», Спальни – «Веселый карнавал» (с масками комедии дель арте). На плафоне Морского кабинета изображены «Обезьяньи забавы» – излюбленный сюжет западноевропейской живописи XVII–XVIII вв. (достаточно вспомнить «Обезьян на кухне» Давида Тенирса или эскизы Антуана Ватто для французского дворца Марли). На плафонах Буфетной и Лакового кабинета представлены «Времена года»: в Буфетной – аллегория Зимы в виде женской фигуры с жаровней и с дрожащим от холода амуром, в Лаковом кабинете – Осень в образе женщины с кистью винограда и кубком вина. Кроме того, в Лаковом кабинете исполнено 94 больших и малых панно «китайской и японской работою» мастерами лакового дела под руководством голландца Гендрика ван Брумкорста (Брумхорста), специально приглашенного для работы в России.
Монплезир. Центральный зал. Проект отделки Ж.-Б. Леблона. 1717–1720
Росписи галерей с люстгаузами исполнены позже, в 1720– 1722 гг., артелью русских мастеров – М. Захаровым, С. Бушуевым, Ф. Воробьевым, В. Брошевским, М. Негрубовым, Л. Федоровым, В. Морозовым, Г. Ивановым, Д. Соловьевым и др. под руководством Ф. Пильмана (?) и Л. Каравака (?) в технике яичной темперы по штукатурке. Заметим, что основное ядро артели сохранялось очень долго; те же художники будут работать и в 1730-е гг. под руководством русского живописного мастера Андрея Матвеева, и в 1740-е – у Ивана Вишнякова. Ф. Пильман, например, давал самую высокую оценку М. Негрубову и С. Бушуеву: «…оные де ученики научились от меня живописным художествам, орнаментам, которыми убираются внутри домов потолки, стены или что иное, и могут они все те живописные дела править собою без всякого отягочения» (цит. по: Успенский А . И. Словарь художников XVIII века, писавших в императорских дворцах. М., 1913. С. 15-16).
Весь декор интерьера в Монплезире исполнен с учетом экспонирования коллекции картин, поскольку здесь размещалось первое в России собрание живописи, уже в 1725 г. насчитывавшее около 200 полотен. Декор галерей Монплезира – легкий, изящный – представляет собой орнамент из стилизованных листьев, раковин, гирлянд и корзин цветов, розеток, птиц, масок, крылатых чудовищ. В западной галерее Весна представлена в образе прелестной девушки, к которой спешит амур. Роспись исполнена по эскизам французского декоратора и портретиста Луи Каравака. Им же расписан шатровый плафон Вольера (Птичника) – 12-гранной беседки с куполом и световым фонарем. На плафоне среди амуров и разнообразных орнаментов изображены Диана, Актеон, Аврора, Аполлон. Живопись Монплезира, созданная в технике темперы по штукатурке артелыо русских мастеров под руководством и по моделям Пильмана и Каравака, представляет собой истинный синтез лучших черт зодчества, монументально-декоративной живописи, резьбы и лепки первой половины XVIII в., образец коллективного труда архитекторов, строителей, живописцев, скульпторов, лепщиков, мастеров-декораторов.
В декоре большого Петергофского дворца особого интереса заслуживает резьба. В Дубовом кабинете (1718–1720) стены украшены вертикальными дубовыми (отсюда и название) панно (из 14 подлинных сохранилось всего восемь), на которых в тонкой, изысканной резьбе представлены символы морского могущества, времена года, атрибуты наук и искусств. Рисунки и модели для них исполнял приехавший на русскую службу французский скульптор и резчик Никола Пино, проявивший здесь высокое чувство формы и неистощимую фантазию в декоративных мотивах. Помимо всего прочего, в интерьерах дворца Ж.-Б. Леблон впервые использовал иллюзионистический эффект зеркал – впоследствии излюбленный прием русского барокко, широко применявшийся в растреллиевских постройках середины столетия.
О живописи Большого Петергофского дворца петровского времени говорить трудно: она, по сути, утрачена навсегда. Мы знаем, что над его плафонами трудились также Л. Каравак и Ф. Пильман (последний, например, расписывал потолок знаменитого Дубового кабинета вместе с русскими мастерами – Негрубовым, Бушуевым, Скородумовым, Морозовым, Семеновым и др.). Хранивший венецианские традиции Бартоломео Тарсиа в 1726 г. исполнил плафон (масло, холст) Картинного зала (знаменитый «Кабинет мод и граций», много позже украшенный 368 картинами П. Ротари). Четыре аллегорических картины на падугах исполнены русскими мастерами Бушуевым и Негрубовым (темпера по штукатурке). Б. Тарсиа принадлежал и плафон Центрального (Большого, как его тогда называли) зала (1726–1727).
Ж.-Б. Леблон. Дубовый кабинет Большого Петергофского дворца
Петропавловский собор – итог нового видения храмового убранства. Роль А. Матвеева
В первой трети XVIII в. если не конкретно светские элементы, то определенный светский дух проникает в культовое зодчество и его живопись. По сути, знаком, символом нововведений петровской эпохи является ее главная святыня – Петропавловский собор и его декор, хотя живопись храма была осуществлена уже после смерти Петра (1728–1732).
Подобно тому, как стены владимиро-суздальских храмов украшались «птищами» и грифонами, навеянными народной фантазией, а листы богослужебных книг – диковинными тератологическими человечками, чему есть немало примеров в искусстве Древней Руси, светское начало вторгается в настенные живописные картины на евангельские сюжеты главного собора Петербурга. Сюжеты Священного Писания при этом не искажаются, не противоречат «букве» и установленной иконографии, просто в них уже много чисто человеческих переживаний и бытовых реалий. Украшение главного собора столицы относится к 1730-м гг., к аннинскому времени, но все преобразования, то новое видение иконного изображения, которое предстает в живописном убранстве его интерьера, были возможны только в реформаторскую эпоху Петра I.
Буквально через полгода по прибытии из Нидерландов живописец Андрей Матвеев, пенсионер Петра и Екатерины, был привлечен к «украшению» главной святыни столицы – Петропавловского собора. Творческое содружество художника с Доменико Трезини было для Матвеева столь же значительным, как десятилетие спустя работа Ивана Вишнякова под руководством Ф. Б. Растрелли. На украшение собора ушло около пяти лет. Еще до приезда Матвеева А. Меркурьев «со товарищи» исполнили 41 образ. Лучшие позолотчики и резчики Москвы готовили иконостас по шаблонам Ивана Зарудного. Картины же иод сводами собора явились своеобразными станковыми произведениями, одними из первых писанных маслом по холсту. Здесь в одном церковном интерьере были объединены «иконописное художество», имеющее вековые традиции, с объемно-пространственной живописью, стремящейся к изображению реального мира. Так восьмисотлетнее наследство русского Средневековья на стенах главного собора столицы великой державы срасталось с новым искусством Западной Европы, идущим от «болонской школы», чтобы утвердиться в нем до конца второго тысячелетия.
Однако новой была не только техника, а и само миропонимание. Во всем сказывался перелом, который наметился в русской культуре еще в XVII в., выразился в решительных реформах Петра, обернувшего Древнюю Русь на европейские «пути следования», но совсем не заглохший, не переставший быть ощутимым и в середине столетия. Евангельские сцены трактованы без средневековой церковной условности, человеческие фигуры потеряли иконную бесплотность, окружающий мир изображен внимательно-подробно.
Обрушенный в самую гущу строительных и монументальнодекоративных работ Петербурга, Андрей Матвеев оказался руководителем большого числа живописцев и сумел создать из этих разрозненных сил настоящий творческий коллектив. Назначенный не только исполнять образа-картины на определенные темы («Вознесение Господне», «Фомино уверение» – таково название в документе; «Моление о чаше» и «Тайная вечеря»), он делал модели (эскизы), т.е. выступал инвентором. Вскоре он вместе с архитекторами М. Г. Земцовым, Д. Трезини, И. К. Коробовым, живописцами Иваном Никитиным – «персонных дел мастером» и Василием Грузинцовым (которого в документах чаще именовали Василий Грузинец с пояснением: «выходец из грузинской земли») «свидетельствовал» работы других мастеров-декораторов в Петропавловском соборе. Таких, например, как Г. Гзель («Христос перед Пилатом», «Вход в Иерусалим», «Отвержение Петрово от Христа», «Ударение в ланиту Иисуса», «Осуждение Пилатом Христа на смерть»), В. Игнатьев («Распятие», «Льстивое Иудино лобзание», «Шествие на Голгофу», «Положение во гроб»; в документе об оплате его труда пренебрежительно сказано: «Русский Васька Игнатьев»), И. Никитин «с Партикулярной верфи», которому была поручена самая ответственная часть живописи в куполе («Соседение Христа Иисуса одесную Бога-отца…»). Кстати, этот последний живописец упоминается в одном обнаруженном нами документе «освидетельствования», где экспертом помимо прочих называется И. И. Никитин – «персонных дел мастер». Это первое документальное свидетельство, разводящее двух художников, которые долгое время во многих исследованиях рассматривались как одно лицо, вызывая недоумение несовпадением жизненных путей и биографических данных. Матвеев вместе с архитекторами Коробовым, Трезини, Земцовым, Мордвиновым, живописцами Захаровым, Грузинцом и «персонных дел мастером» Никитиным оценивал также живопись Д. Соловьева в куполе и иконы артели Андрея Меркурьева.
К сожалению, большинство живописных работ, написанных А. Матвеевым и его коллегами для Петропавловского собора, до наших дней не сохранилось. После пожара в соборе в 1756 г. вместо деревянных стропил купола были сделаны кирпичные своды, а первоначальная живопись купола и барабана заменена изображением Святого Духа в виде голубя и орнаментальной росписью. К середине XIX в. 16 картин с праотцами и пророками и восемь евангельских сцен в нижнем ярусе барабана так разрушились, что в 1877 г. были заменены новыми. Среди утраченного были и матвеевские «Вознесение» и «Фомино уверение». Не сохранились и многоцветные орнаментальные росписи сводов. Начиная с 1744 г. эти росписи бессчетное количество раз исправлял и поновлял И. Я. Вишняков с командой. До нас дошли орнаменты клеевыми красками времени реставрации 1870-х гг.
Композиции на евангельские сюжеты под сводами по всему периметру собора работы Гзеля, Игнатьева, Матвеева и др. не раз поновлялись, переписывались, иногда даже заменялись новыми. После капитальной реставрации собора в 1950-е гг. удалось освободить от поздних наслоений и выделить три группы произведений: самые старые по времени композиции, относящиеся к концу 1720-х – началу 1730-х гг. (некоторые из них были аргументированно атрибутированы); затем те, что после пожара 1756 г. переписывал И. Я. Вишняков с командой; и наконец, картины, замененные в конце XVIII в. Среди произведений первой группы исследователями справедливо выделяется картина А. Матвеева «Моление о чаше», написанная с большей живописной мягкостью, свободой и непосредственностью, нежели остальные. Фигура коленопреклоненного Христа в ней уравновешивается летящим ангелом с чашей в руках; головки трех херувимов на фоне облачного неба удачно подчеркивают глубину пейзажа (см.; Элькин Е. Н. Декоративные росписи и живопись Петропавловского собора: [рукопись, 1958]. С. 41).
Действительно, из семи картин, которые помимо «Моления о чаше» сохранили в основном первоначальную живопись («Христос перед Пилатом», «Отречение Петра», «Коронование Христа терновым венцом», «Несение креста», «Распятие», «Сошествие Св. Духа»), картина Андрея Матвеева выгодно отличается композиционным мастерством, колористической цельностью и живописной мягкостью. В ней нет ни повышенной экспрессии, которую мы видим, например, в «Распятии» Василия Игнатьева, ни пестроты и жесткости композиций Георга Гзеля. Фон картины вполне можно назвать первым примером русской пейзажной живописи. Уходящие вдаль холмы, пересохшая земля, сумрачные клубящиеся тучи создают впечатление тревожного ожидания. Мягкие, текучие мазки, отсутствие резких контуров вместе с некоторой неустойчивостью фигур Христа и летящего ангела придают всей сцене взволнованный характер.
Помимо «Моления о чаше» кисти Матвеева в Петропавловском соборе принадлежит также овальная композиция «Тайная вечеря», находящаяся в сени над престолом. «Тайная вечеря» (полностью исследованная авторами монографии о художнике в технико-технологической лаборатории ГРМ, что подтвердило несомненное авторство Матвеева), написана маслом на дубовой доске. Как представляется, форма вертикального овала плохо подходит к этой композиции, по художник не был волен выбирать формат доски, который был продиктован архитектором. Нужно отметить только, что Матвеев прекрасно справился с трудной задачей размещения 13 фигур в узком пространстве иконы, взяв за основу известную композицию П. П. Рубенса на этот сюжет (Милан, галерея Брера). В группе столь тесно разместившихся за столом апостолов глаз безошибочно определяет фигуру Иуды – единственного, кто смотрит не на Христа, а на зрителя. Христос – центральная фигура всей сцены – выделен не только композиционно, но и живописно: он помещен на пересечении центральных осей картины, а лицо и руки – наиболее светлые пятна композиции. Свет, исходящий от Христа, распространяется на ближайших к нему апостолов и угасает по мере удаления от него.
Мы так подробно остановились на живописи Петропавловского собора – первого и главного в Петербурге – именно потому, что изобразительные средства, при помощи которых она исполнена, являют собой уже язык искусства Нового времени.
В петровскую эпоху происходил сложнейший процесс взаимопроникновения и взаимовлияния русской и европейской культуры. Однако изучение и использование художественных приемов общеевропейского искусства не означало решительного разрыва с древнерусской традицией. Исследователи справедливо отмечают, что корни светских росписей петровской поры лежат в искусстве Древней Руси, в бытовой трактовке религиозных сцен стенописей XVII в., как, например, в церкви Троицы в Никитниках в Москве, в жанровых мотивах фресок ярославских церквей (в частности, церкви Ильи Пророка), в клеймах некоторых икон позднего древнерусского периода.
Однако при всей несомненной связи с великим искусством русского Средневековья в целом монументально-декоративная живопись петровской эпохи являет собой нечто совсем иное. Это не цветовое орнаментальное узорочье XVII в., ковром устилающее стены и обрамляющее религиозные композиции из притч и житий святых, а живопись, возродившая античный Олимп и пытающаяся приспособить его посредством сложного аллегорического языка к прославлению сугубо светской государственной власти и мощи России. Живопись, решающая определенные воспитательно-просветительские задачи, которая даже в библейских сюжетах на стенах храма уже говорит языком Нового времени.
Касаясь стилистики монументально-декоративной живописи светской архитектуры петровской поры, справедливо сказать следующее. С одной стороны, перед нами попытка иллюзорно-пространственных решений в плафонах дворцов и на триумфальных воротах, прекрасное владение аллегорическим языком «символов и эмблематов», определенная театральность и патетичность в трактовке тех или иных сюжетов, обращение к проблеме бесконечности мира (изображение времен года или четырех стихий в Монплезире, частей света – в Зеленом кабинете Летнего дворца). Все перечисленное – черты, характерные для общеевропейского барокко. С другой стороны, поражают меткая наблюдательность, почти натурализм деталей в трактовке исторических и батальных сцен (вспомним хотя бы изображение Петра с плененными шведами на Строгановских триумфальных воротах 1709 г. или фигуру воина (Марса?) в нижнем слое росписи Орехового кабинета Меншиковского дворца). Все это усиливается рациональным и практичным образом ясных и простых в целом архитектурных форм, тяготеющих скорее к будущему классицизму, что лишний раз доказывает условность термина «петровское барокко» и в монументальной живописи представляется даже более очевидным, чем в других видах искусства той эпохи.
Станковая живопись петровского времени
Роль парсуны в становлении портрета как основного жанра живописи
С начала XVIII в. главное место в станковой живописи маслом на холсте начинает занимать портрет во всех его разновидностях: камерный, парадный, в рост, погрудный, парный. В портрете проявляется исключительный интерес к человеку, столь характерный для русского искусства в целом (в русской литературе этот интерес выявится несколько позже, со следующего столетия, зато с какой необычайной силой и выразительностью!). Конечно, портретный жанр не был абсолютным новшеством в искусстве XVIII в. Ему предшествовали разнообразные типологические варианты, известные предыдущему столетию: исторический портрет; изображения с предстоящими; портреты в многочисленных «титулярниках»; наконец, парсуна (от искаженного persona – термин, введенный в научный оборот И. Снегиревым).
В условиях трансформации общественной и культурной жизни России от Средневековья к Новому времени парсуна стала переходной формой в искусстве от иконы к будущему светскому портрету. Ее истоки можно проследить еще в XVI в., по прямые пути идут из Оружейной палаты, от Симона Ушакова и Иосифа Владимирова с их призывом к «световидной» и «живоподобной» живописи икон. Это была перемена мировоззренческая, но одновременно и технологическая: переход от письма темперой по дереву к живописи маслом на холсте. В Оружейной палате в 1683 г. впервые произошло разделение на иконописцев и живописцев (последних возглавил Иван Безмин).
Расцвет парсуны приходится на последнюю треть XVII – первое десятилетие XVIII в. Но, как мы увидим в дальнейшем, отзвуки ее будут различимы на протяжении всего столетия. Созданная руками царских живописцев Оружейной палаты, парсуна стала выражением придворной культуры. Ее главными моделями были цари – Алексей Михайлович, Федор Алексеевич, Иван V Алексеевич. Даже «Апофеоз Петра I» (1710, ГИМ) по языку – это тоже парсуна. Очень часты конные изображения: мотив коня был прекрасно известен древнерусской иконе. Пешие изображения делились на поясные и «стоячие». Не только царские особы, по и их окружение предстает в величественных, монументальных суровых образах парсуны (стольник В. Люткин (1697, ГИМ); три брата князья Репнины (все три – ГРМ; конец XVII в.), Л. Нарышкин (того же времени, ГИМ) и др.
Современный исследователь отмечает: «Парсуна – искусство, принципиально и искренне основанное на чрезвычайно высоком отношении к модели и по своему духовному заряду – глубоко позитивное. Православное представление о царственном достоинстве человека сочетается в ней с осознанием незаурядного социального статуса изображенной персоны – данного ей высокого служения. Склад православной души с одним из главных ее качеств – неосуждением – исключал возможность да и необходимость какого-либо критического анализа модели. Взгляд живописца – ясный, целостный, исполненный нелицемерного пиетета к личности человека» (Руднева Л. Ю. О живописной парсуне последней трети XVII века и ее традициях в XVIII веке // Русский исторический портрет. Эпоха парсуны. М., 2004. С. 45). Из приведенной цитаты ясна концепция автора о высокой миссии парсуны и становится понятно, почему Л. Ю. Руднева называет Преображенскую серию портретов, о которой пойдет речь, «антиподом классической парсуны».
Преображенская серия. Проблема авторства и датировок. Особенности изобразительного языка
В Преображенской серии портретов (созданной для Преображенского дворца под Москвой на Яузе) есть несомненное ерничество, насмешка, ибо всех их объединяет, прямо скажем, малопочтенное занятие пародией на церковные обряды, литургию, да и просто на вековые традиции вроде свадебного поезда. Долгое время в науке их было принято называть «портретами шутов», так как они исполнены в основном с лиц, участвовавших в сатирическом «конклаве» «Всепьянейшего сумасброднейшего собора всешутейшего князь-папы». Однако во всех этих портретах их анонимные создатели показали индивидуальность своих моделей, проявили напряженное внимание к человеческому лицу, как, например, в портрете киевского полковника, «жильца рейтарского строя» Якова Тургенева (ГРМ), участника Кожуховского похода, верного сподвижника Петра I, ожененного им на «дьячей вдове» (причем свадьба проходила почему-то «на поле в шатрах»).
Их авторы уделили внимание и реалиям быта. Достаточно вспомнить своеобразный натюрморт в немного более позднем по времени портрете Алексея Василькова, носящий «сакраментальный» для члена «Всепьянейшего собора» характер: штоф, стопка, винный бочонок и прочие атрибуты «священного действа» (ГРМ). Даже некоторое однообразие композиции большинства этих портретов (излюбленный тогда прием – овал в живописном прямоугольнике) не стирает их яркой индивидуальности. Перед нами вереницей проходят колоритнейшие типы: насмешливо улыбающийся Иван Щепотев (ГТГ), щекастый Николай Жировой-Засекин (ГРМ), стольник царицы Прасковьи Федоровны, «грозный зраком» стольник молодого Петра Федор Веригин (ГРМ); «бесящий» (т.е. бесноватый) Андрей Апраксин (ГРМ), прозванный так за жестокое избиение Желябужского с сыном, за распрю, доведенную до судебного разбирательства, получивший звание «кардинала» во «Всепьянейшем соборе». Здесь и «унылый стряпчий» Алексей Никифорович Ленин в двойном портрете, где он представлен «с хлопцем», или, как называет этого «хлопца» И. Э. Грабарь, «с калмыком» (ГРМ); и первый «патриарх» «собора» М. Ф. Нарышкин, родственник царицы Натальи Кирилловны, матери Петра, «патриарх Милак», как он именовался в «конклаве».
Не все изображенные в Преображенской серии персонажи принимали участие в «Соборе». Со временем портреты добавлялись. Просуществовав в Преображенском дворце до последней четверти XVIII в., они были отправлены в Северную столицу и до 1920-х гг. находились в Гатчинском дворце. Затем коллекция разошлась по музеям (ГРМ, ГЭ, ГТГ). Кто исполнял эти произведения?
В Преображенской серии как число портретов по-разному определяется разными исследователями (около или чуть более 12, из них восемь составляют основу серии), так и имена исполнителей – от И. Г. Таннауэра до Ивана Адольского. В серии можно явственно проследить две руки: одну более живописную, другую более графическую, но и в том и в другом случае – руку отечественного мастера. Восемь портретов серии несомненно выполнены если и не одним художником, то во всяком случае мастерами, вышедшими из одних живописных мастерских Оружейной палаты.
Неизвестный художник. Алексей Васильков. 1710-е, ГРМ
«Бородатые бояре», такие как Нарышкин, Щепотев, Веригин, Тургенев, могли быть написаны в первой половине 1690-х гг., во всяком случае до августа 1698 г., когда Петр I возвратился из-за границы и стал собственноручно стричь бороды своим приближенным, собравшимся в Преображенском дворце (Яков Тургенев умер в январе 1695 г.). Даже портрет Василькова (Васикова) «с натюрмортом», созданный на рубеже веков, несет в себе черты старомосковской культуры конца XVII в. Об этом говорит понимание глубины пространства, лепки объема, светотеневой моделировки, анатомической правильности (в данном случае вернее сказать «неправильности») в передаче человеческой фигуры. Все это лежит еще в системе живописи предыдущего столетия и по поэтике, по системе выразительных средств близко к парсуне. Суммарно портреты можно датировать последним десятилетием XVII – первым десятилетием XVIII в. Как справедливо отмечают исследователи серии, это «последний, заключительный аккорд древнерусской живописи» (подробнее см.: Гаврилова Е. И. О методах атрибуции двух групп произведений петровской эпохи // Научно-исследовательская работа в художественных музеях. Ч. 2. М., 1975. С. 45-75).
Нужно было многое преодолеть, необходим был колоссальный творческий скачок, чтобы от этих портретов, исполненных в основном во второй половине 1690-х гг., прийти к никитинскому изображению Прасковьи Иоанновны (1714). Это путь в действительности много более продолжительный, чем составившие реальные 20 лет.
Место «россики» в живописи петровского времени
Конечно, усвоению европейского художественного языка немало способствовали приглашенные Петром иностранцы. «Россика», под которой в науке подразумеваются произведения иностранных мастеров, работавших в России, оценивалась исследователями по-разному, а правильнее сказать – прямо противоположно: от чрезмерного преувеличения ее роли до полного непризнания, что не соответствует истине в обоих случаях. Эта оценка (или недооценка) происходила скорее всего оттого, что в «россике» видели нечто уничижительное для отечественного искусства, забывая, что иностранные мастера работали в любой европейской стране, где оставляли след в меру своих дарований (достаточно вспомнить Гольбейна Младшего или Ван Дейка).
Иностранные художники приезжали еще в Древнюю Русь – вспомним строительство Кремля в XV–XVI вв., – и особенно часто во второй половине XVII в. Что же касается XVIII в., то на всем его протяжении роль иностранцев в русской культуре была далеко не одинакова (подробнее об этом см.: Евангулова О. С. Русский портрет XVIII века и проблема «россики» // Искусство. 1986. № 12. С. 56–61; Ее же. Русские портретисты XVIII века и их французские современники // Век Просвещения. Россия – Франция. М., 1989. С. 273–288). В указе Петра о приглашении в Россию иностранных художников (1702) подчеркивалось, что они едут «своею волею» и «для прокормления своим художеством», сохраняя свободу выезда, подданство и выбор вероисповедания (подробнее см.: Маркина Л. А. «Россика» петровского времени // Русское искусство. 2006. № 4).
Состав иностранных мастеров, повлиявших на ход развития мирского искусства в России, был весьма не однороден. Единицами исчисляются такие большие таланты, как скульптор Б. К. Растрелли и приехавший с ним его 16-летний сын Ф. Б. Растрелли, по сути, выросший в России и здесь ставший великим архитектором. Не исключались и просто авантюристы, приезжавшие «на ловлю счастья и чинов». Однако в основном след в русском искусстве петровской поры оставили средней руки вполне добротные мастера, приехавшие в Россию по контракту на несколько лет и задержавшиеся до конца жизни. Знаменательно, что некоторые из тех, кто приехал, чтобы обучать русских художников, сами менялись под воздействием местных национальных традиций, как то было, например, с Л. Караваком, заметно изменившим свою рокайльную манеру в 1730-е гг. и приблизившимся к старорусским парсунным приемам письма. Среди первых по времени мастеров помимо Каравака (сразу после петровского указа в Россию просто хлынула масса немцев из бесчисленных мелких княжеств) выделяются И. Г. Таннауэр и Г. Гзель.
И. Г. Таннауэр
Выходец из семьи саксонского часовых дел мастера Иоганн Готфрид Таннауэр (1680–1737; в дореволюционной литературе чаще именуется Дангауэром) до приезда в Россию учился в Италии – сначала музыке, а потом живописи у хорошо известного портретиста и миниатюриста Себастьяна Бомбелли. В Россию Таннауэр приехал в 1711 г. по рекомендации уже известного царю Яна Купецкого, участвовал в Прутском походе и даже потерял в нем свое имущество. Став придворным художником, по договору (1710) Таннауэр должен был получать годовое жалованье в 1500 дукатов (750 ефимков), при этом он обеспечивался квартирой и всеми необходимыми предметами ремесла.
Таннауэр познакомил русских мастеров с приемами позднего европейского барокко. Но сначала несколько слов о его камерных портретах. Первой из исполненных им в России работ исследователи называют портрет Алексея Петровича – «предсвадебное изображение», писанное с натуры (свадьба была в 1711 г.), когда Петр еще был полон надежд на сына (дав ему хорошее военное образование, брал в походы, посвящал в государственные дела, а уходя в Прутский поход, передал ему «верховное надзирание»). Дальнейшая судьба царевича известна (побег за границу, Вена, Тироль, Неаполь, возвращение в Россию, отречение от престола, Петропавловская крепость и смерть). Портрет в итоге так и не был завершен (ГРМ, первая половина 1710-х).
Выразительность характеристики и несомненное сходство читаются в портрете П. А Толстого, сыгравшего столь трагическую роль в судьбе царевича (1719, Литературный музей Л. Н. Толстого; портрет подписной и датированный). Учившийся морскому делу в Италии, почти полтора десятилетия служивший российским послом в Турции, получивший графское достоинство в недолгое правление Екатерины I, Толстой при внуке Петра за участие в судьбе его отца был сослан в Соловецкий монастырь, где и умер. Но на этом портрете он еще полон силы, высокомерия, чувства власти. Несмотря на скромность композиции, ощущается пафос барочной стилистики – а ведь именно приемы барокко принес с собой в Россию Таннауэр.
В стилистике портрета А. Д. Меншикова (1727(?), ГМЗ «Павловск») ощущаются незнакомая русским мастерам барочная динамика, глубина пространства, светотеневые контрасты. Меншиков представлен на фоне битвы, с фельдмаршальским жезлом в руке, в развевающемся алом плаще, с голубой лентой Андрея Первозванного через плечо. Живописен умело передает множественность разных фактур: блеск лат, мягкость бархата мантии, шелковистость волос длинного по моде петровского времени парика. Изображение в высшей степени импозантно, величественно, репрезентативно. Старая русская живопись тоже знала репрезентативные изображения, но приемы ее были иные. Линейный ритм портрета Меншикова построен на «пафосе кривых». Здесь нет ничего от знакомого и родного языка парсуны с ее статикой, плоскостностью, замедленным ритмом, вызванным самой жизненной традицией «жить, как наши деды жили». Справедливо замечено, что, соответствуя стилю барокко, мастер создает как бы идеальный образ полководца, но при этом не теряет жизненной конкретности образа.
Еще в большей мере это относится к портрету Ф. М. Апраксина (не датирован; ГМЗ «Павловск»). Те же черты парадности и помпезности: Апраксин представлен в латах, с лентой и звездой ордена Андрея Первозванного. Путь его славы был не прост: он приложил руку к созданию первого «потешного войска», был назначен воеводой в Архангельск, где строились первые петровские верфи, участвовал в Азовских походах. В Северную войну Федор Апраксин блистательно совершил взятие Выборга (1710), перейдя из Кронштадта с 10-тысячным корпусом по льду, и недаром заслужил за это орден Андрея Первозванного, а еще ранее – звание адмирала (1707). Два портрета (причем, отметим, в изображении Апраксина даже отсутствует какая-либо приукрашенность модели: лицо немолодое, в морщинах, седые волосы развеваются по ветру), но в них передана вся атмосфера победного времени «птенцов гнезда петрова».
Камер-юнкер Берхгольц, посетивший художника в 1722 г., писал: «Это были портреты императора, императрицы, обеих принцесс и князя и княгини Меншиковых – все оригинальные, одинаковой величины и один лучше другого. Хотя каждый из них отличался необыкновенным сходством и не имел никаких недостатков, однако ж всех похожее был портрет императора – совершенная натура» (Берхгольц Ф. В. Дневник камер-юнкера Берхгольца… Ч. 2. С. 304).
Таннауэр как гофмалер, придворный живописец, естественно, неоднократно писал Петра, например на фоне Полтавской битвы (1710-е, ГРМ). Это сочиненная вполне в духе барокко картина, изображающая царя на вздыбленном коне на фоне баталии и венчаемого Славою; от классических европейских баталий времени барокко ее отличает разве что малый размер. Из дошедших до нас документов известно, что Таннауэр дважды писал Петра с натуры – в 1714 и 1722 гг. Одним из таких произведений можно считать профильное изображение Петра из музея «Кусково» (подробнее о нем см.: Маркина Л. А. «Россика» петровского времени // Русское искусство. 2006. № 4. Здесь же рассказывается и о других произведениях, введенных автором в научный оборот, например о портрете Петра из Бад-Пирмонта (1716). В указателе литературы см. иные, не менее важные работы этого автора по «россике»).
Как и Ивану Никитину, Таннауэру было доверено писать Петра на смертном ложе (ГЭ). Живопись Таннауэра построена на интенсивных цветовых сочетаниях, например синего и красного с серебристо-белым, с сильными светотеневыми контрастами. Лепка формы энергичная, эффектная.
Знаменательно, что после смерти императора Таннауэр просил об отставке. Он покинул Россию, но добрался лишь до Польши, заболел и возвратился в Россию, где и умер в 1737 г.
Г. Гзель
Швейцарец из Сан-Галлена Георг Гзель (1673–1740; в старой транскрипции – Кселль) приехал в Россию позже И. Г. Таннауэра, в 1717 г. Источники упоминают, что Петр познакомился с ним в Амстердаме, на аукционе. Известно, что в 1690–1695 гг. Гзель учился в Вене у фламандского живописца. В искусстве Гзеля нет бравурности, победности и патетичности Таннауэра. Эго художник даже не реалистического, а, скорее, натуралистического направления (он служил при Санкт-Петербургской типографии и преподавал рисование и живопись в Академии наук). Гзель запечатлел для потомков раритеты Кунсткамеры, среди которых были несохранившиеся «портрет бородатой русской женщины за пряслицей», «изображение ея же нагою», а также дошедший до нас портрет знаменитого великана (с которым Петр познакомился в Кале и восхитился сто ростом в 2 м 27 см) Николя Буржуа (между 1717–1724; ГРМ). Этот портрет представляет собой наивное изображение простодушного человека с не менее наивной надписью в верхнем левом углу полотна – «сильной мужик», как будто автор чувствовал, что образ великана ему не удался: не спасают и огромные руки на переднем плане, держащие рулон, напоминающий также некое подобие трубы или цилиндра. О цвете судить трудно, так как портрет находится в очень плохой сохранности и совершенно не экспозиционен, тем не менее можно отметить смелость сочетания красного и желтого в одежде.
И. Г. Таннауэр. Петр I в Полтавской битве. 1710-е, ГРМ
Гзель много работал и как монументалист-декоратор (о его активном участии в украшении Петропавловского собора и Летнего дворца см. выше). Известны его образа с изображением апостолов и евангелистов для лютеранской церкви Св. Петра в Петербурге, обнаруженные случайно перед самым началом Великой Отечественной войны.
Жена мастера («Гзельша», как ее именовали) Мария Доротея Гзель (1678–1743) продолжала дело своей матери, художницы М. С. Мериан, изображая «птиц и насекомых», «цветы и плоды» для академических атласов тоже натуралистически, что вполне отвечало иллюзионизму барокко.
В ту пору жадного познания мира русские люди внимательно изучали открывшиеся перед ними реальности. Отсюда страсть к коллекционированию минералов и всякого рода окаменелостей, гербарии и первые собрания библиотек, интерес к географическим картам, планам и видам городов, собирание различных инструментов, механизмов, барометров, компасов. Сам Петр все это очень любил, как любил он корабли и их модели, море, путешествия, навигационные приборы и марины Адама Сило. Собственно, результатом подобной страсти к достоверности, муляжу, иллюзионизму были и знаменитые «обманки» как петровского времени, так и особенно середины века – натюрморты Г. Н. Теплова, П. Г. Богомолова и других художников с раскрытыми нотами и тетрадями, загнутыми страницами книг, нераспечатанными письмами, сломанными расческами и гусиными перьями.
Л. Каравак
Гасконец по происхождению Луи (Людовик) Каравак (1684–1754), представитель третьего поколения династии декораторов кораблей, родился в Марселе, где вначале работал на верфях, затем перебрался в Париж, откуда его в 1715 г. и «зафрахтовал» на русскую службу П. Лефорт, заключив с ним договор, по которому художник должен был получать жалованье в 500 руб. годовых. В договоре Каравак подписался на множество разнообразнейших работ – от монументально-декоративных (о чем шла речь выше) до самой «субтильной» живописи. В Петербург он прибыл в 1716 г. «Первым придворным моляром», как он подписывался в царствование Анны Иоанновны и Елизаветы Петровны. Каравак создал галерею портретов всей царской семьи, познакомив русских с еще только складывающимся во Франции искусством рококо.
В двойном портрете предстают дочери Петра – девятилетняя Анна и восьмилетняя Елизавета (1717, ГРМ) в образе взрослых позирующих художнику моделей. Елизавета Петровна держит цветок над головой старшей сестры, в руках у которой корзина с цветами. И хотя цветовые пятна – золотой узор парчи платья и красный, почти алый шарф Анны Петровны и серебро лифа и белый шарф на груди Елизаветы Петровны – крупные, мощные, яркие, присущие скорее русской живописи, изысканность и грациозность движений, жеманство жестов, театрализация изображения в целом характерны для нарождающегося искусства рококо. Эти черты особенно явственны в портрете маленькой обнаженной Елизаветы Петровны в образе Флоры, возлежащей на синей отороченной горностаем мантии (вторая половина 1710-х, ГРМ).
Есть нечто пикантное, терпкое в том, что ребенку приданы формы взрослой женщины, – и совсем не оттого, что художник не умеет изображать детское тело: портрет Петра Петровича в виде Купидона («Петенька-шишечка», 1716, ГТГ; повторения-копии – ГРМ и ГЭ; приписывается Караваку) опровергает это утверждение. С большим вниманием художник лепит форму пухлых рук, натягивающих тетиву, передает весомость колена, опирающегося на красную бархатную подушку, где лежат золотая корона и Андреевская лента. В соответствии со стилистикой рококо Каравак любит театрализованное преображение: внуки Петра – Петр Алексеевич и Наталья Алексеевна предстают в виде Аполлона и Дианы (1722, ГТГ). Золотистый тон одежды будущего императора Петра II и его красная, подбитая горностаем мантия тонко сгармонированы с голубым платьем Натальи Алексеевны, отделанным розовыми бантами и оборками. Красное повторяется в драпировке справа, розовое – в далях неба за плечами моделей.
Л. Каравак. Портрет царевен Анны Петровны и Елизаветы Петровны. 1717, ГРМ
Рокайльное изящество уступает место глубокой психологической характеристике в так называемом портрете Петра I в овале (1722, ГРМ), недаром его так долго приписывали Ивану Никитину.
Напомним и еще об одной стороне деятельности Каравака: он был в числе тех, кто разрабатывал идею создания Академии художеств и в начале 1720-х гг. подавал императору свою программу обучения.
Творчество первых петровских пенсионеров. Братья Иван и Роман Никитины, их жизненная и творческая судьба
Кого из отечественных художников можно поставить рядом (вровень или выше) с перечисленными иностранцами? Кто не только проторил пути новому светскому искусству, но и всем своим творчеством продемонстрировал его победу? Это прежде всего два имени – Иван Никитин и Андрей Матвеев. Оба пенсионеры, но первый сложился как мастер еще до пенсионерской поездки.
Судьба Ивана Никитина (ок. 1680 – не ранее 1742), первого русского художника Нового времени, очень знаменательна. В науке сведения о его жизни долгое время были крайне запутаны, ибо, как уже отмечалось, исследователи соединяли имя Ивана Никитина – «персонных дел мастера», о котором идет речь, с Иваном Никитиным «с Партикулярной верфи». Получалось так, что художник одновременно и учился в Артиллерной школе, и получал заказы на царские портреты, ехал пенсионером в Италию и обитал в то же время в Петербурге. Лишь документ по Петропавловскому собору, в котором говорилось об освидетельствовании архитекторами Д. Трезини и М. Г. Земцовым и «персонных дел мастером» Иваном Никитиным» живописи, исполненной артелью Андрея Матвеева, куда входил и Никитин «с Партикулярной верфи», позволил окончательно разъединить и персонифицировать эти две фигуры. Дело усложнялось еще и тем, что Иван Никитин «с партикулярной верфи» умер в 1729 г., что совпало с прекращением каких-либо сведений об Иване Никитине – «персонных дел мастере».
Иван Никитич Никитин родился в Москве в семье священника, вероятно, духовника царицы Прасковьи Федоровны. Его брат Родион (Иродион) также был священником, духовником племянницы Петра Екатерины Иоанновны, как об этом пишут исследователи (см.: Лебедева Т. А. Иван Никитин. М., 1975; Андросов С. О. Живописец Иван Никитин. СПб., 1998). Возможно, не только с переводом Оружейной канцелярии, но именно с переездом вдовой измайловской царицы попадает наш художник в Петербург, где его и приметил Петр. Отсюда становится понятной близость художника к царскому двору и заказы портретов царской семьи еще до заграничной поездки Никитина. Вероятно также предположение исследователей о том, что еще в Москве Никитин постигал азы рисования у графиков А. Шхонебека и П. Пикарта. По приезде в Петербург он некоторое время находится под влиянием И. Г. Таннауэра, что ощущается в технике, в почерке, например в портрете Петра на фоне морского сражения (предположительно 1715, ГМЗ «Царское Село»; подробнее об этом см.: Андросов С. О. Живописец Иван Никитин. С. 23, 29).
В 1716 г. Иван Никитин возглавляет группу пенсионеров, куда входили его младший брат Роман, Михаил Захаров и Федор Черкасов, отправляемых учиться «художествам» в Италию. При них было рекомендательное письмо самого Петра к герцогу Тосканскому Козимо III Медичи во Флоренцию. Вместе с группой учеников дипломатическим и торговым агентом в Венецию отправлялся П. И. Беклемишев, который аккуратно сообщал Петру или его кабинет-секретарю Макарову среди других дел и об успехах посланных учиться «художествам». Напомним, что еще в 1697– 1699 гг. Петр посылал русских людей, в основном из богатых боярских семей, обучаться искусству мореходства. И только более чем через 15 лет была послана первая группа художников (заметим, в разгар Северной войны, в ажиотаже строительства новой столицы, очень оживленного после славной победы при Гангуте). Средства на их путешествие и обучение были выделены весьма ограниченные. Однако с какой нескрываемой гордостью пишет Петр 19 апреля 1716 г. в письме Екатерине в Данциг сразу же, как только Никитин выехал из России и путь его лежал через Берлин, о том, чтобы он написал портрет прусского короля, «дабы знали, что есть и из нашего народу добрые мастеры»!
Иван Никитин приехал в Рим, знакомился с бессмертными памятниками, год провел в Венеции, затем учился во Флорентийской академии у художника-монументалиста Томмазо Реди, довольно известного мастера исторической и мифологической живописи, а также портретиста. Однако уже в конце 1719 г. Петр отзывает Никитина, возможно, в связи с намечающимся планом основания собственной, российской, Академии художеств, в которой прочит ему место профессора. Во всяком случае в первой половине 1720 г. Иван Никитин оказывается в Петербурге в самой гуще событий. Чуть ли не на второй день после его возвращения царь осмотрел то, что привез с собой художник. Известно также, что Петр даровал Никитину место для мастерской и собственного дома на Адмиралтейской стороне у скрещения Мойки с «Першпективной дорогой» (будущий Вознесенский проспект; чертеж дома, исполненный самим художником, сохранился, по дом, по сути, так и не был достроен). Подводя итог обучению Никитина в Италии, исследователь справедливо пишет: «Итальянская школа попала на почву природной одаренности и незаурядности трудолюбия живописца. Все это позволило Ивану Никитину стать первым среди русских художников профессионалом в европейском понимании этого слова» (Андросов С. О. Живописец Иван Никитин. С. 61).
Последующие пять лет – годы необычайного творческого взлета живописца. Он не раз писал императора с натуры, в том числе и до пенсионерской поездки, например в 1715 г. (?) на фоне морского сражения, как явствует из документов; писая его на острове Котлине, наконец, Никитину принадлежит известное изображение Петра на смертном одре (1725, ГРМ). В документах с 1721 г. Иван Никитин указывается как «гофмалер», или «двора Его Величества живописец». Заметим, однако, что оклад его значится в 200 годовых, притом что жалование И. Г. Таннауэра составляло 640, а архитектора Н. Микетти и вовсе 3 тыс. руб. – так уж заведено на Руси.
С возвращения из Италии до смерти Петра Никитин провел вместе с императором более четырех лет. Он писал его портреты, занимался коллекциями картин, был с ним в поездках в Ригу, Ревель, на Марциальные воды. Анализируя все доступные архивные документы, исследователи не преувеличивают, когда пишут «о глубокой симпатии и обоюдном уважении, с которым относились друг к другу царь и его гофмалер» (Андросов С. О. Указ. соч. С. 67). Иван Никитин здесь предстает не как царедворец, проситель, а как человек, твердо знающий себе цену, сформировавшийся под знаком и в атмосфере петровских реформ.
Однако после смерти императора начинается в высшей степени трагический период в жизни художника. Как и Таннауэр, Никитин оказывается в ведении надворного коменданта Петра Мошкова, который 6 декабря 1725 г. информировал Кабинет о вынужденном простое в деятельности обоих живописцев. Для заказанных Никитину двух портретов Елизаветы Петровны и одного Анны Петровны нет материалов, а в начале 1726 г. и дом на Мойке, дарованный царем, взят под постой. Таннауэр вообще в это время просит об отставке, которую в конце 1726 г. и получает, но ему хотя бы выплатили немалую сумму «выходного пособия» (более 1000 руб.), а Никитину Канцелярия от строений объявила, «чтоб он довольствовался от трудов своего художества, ибо в нем в канцелярии от строений ныне нужды не имеется».
В 1728 г., как уже отмечалось, Никитин вместе с Трезини и Земцовым «свидетельствует» живопись Петропавловского собора. На этом, по сути, и кончаются сведения о его творчестве. Ибо все, что в старой литературе приписывается Никитину, как исполненное им в 1730-е гг. (исключение могут составить лишь два портрета, но об этом ниже), ему не принадлежит.
С переездом двора Петра II в Москву братья Никитины снова оказались в родном городе, но ненадолго: с новой императрицей Анной Иоанновной они возвратились в Петербург. Здесь в 1732 г. Иван Никитин вместе с братьями Романом и Родионом был арестован за хранение тетради с пасквилем на иерарха церкви Феофана Прокоповича, вице-президента Святейшего синода («Житие еретика Феофана Прокоповича»). Имя художника оказалось замешано в так называемом деле Родышевского. Наказание было строгим: пребывание в одиночном заключении в Петропавловской крепости с 1732 по 1737 г., «битье плетьми» в ноябре 1737 г. и затем этап «в железах» на «вечное житье за караулом» в Тобольск. Это невольно наводит на мысль об участии художника чуть ли не в заговоре против императрицы Анны Иоанновны, как допускают некоторые исследователи (Н. М. Молева), что, впрочем, ничем не доказано. К следствию привлекались все новые люди, пытки исторгали все новые имена. Лиц священнического сана расстригали, чтобы вздернуть на дыбу (о деле Родышевского см.: Чистович И. Феофан Прокопович и его время. СПб., 1868).
Вина братьев Никитиных заключалась только в хранении «подозрительной тетради» и в «недонесении». Связать их с делом Родышевского, даже если всему делу и был придан на втором круге следствия политический характер, чего добивался Феофан Прокопович при активной поддержке вице-канцлера Остермана и начальника Тайной канцелярии Ушакова, было вещью бесперспективной. Приговор, чудовищный ио несправедливости, был вынесен только в 1737 г., когда Феофан уже умер. В ноябре 1740 г . регентша малолетнего императора Анна Леопольдовна помиловала Родиона Никитина, духовника ее матери. Ему возвратили сан и назначили священником придворной церкви в Москве (1741). В апреле 1741 г. последовал указ о возвращении Ивана и Романа Никитиных из Тобольска в Москву. Взошедшая на престол Елизавета Петровна не замедлила с подтверждением указа в Тайную канцелярию. В январе 1742 г. Иван Никитин был у присяги как полноправный гражданин. Незначительный документ (от февраля 1742 г. о краже в его доме) свидетельствует в пользу того, что художник в это время еще был жив. Двинуться в путь он должен был со своим племянником Петром, сыном Романа и будущим архитектором (Роман покинул Тобольск сразу после помилования). По с этого момента сведения об Иване Никитине прекращаются. Можно предположить, что летом по дороге на родину он, давно болевший, умер. Такова в самых общих чертах судьба первого русского живописца Нового времени.
Что же сохранилось из станковых произведений от недолгой творческой жизни художника? Иван Никитин был «персонных дел мастер», т.е. портретист. Нам известны четыре его подписных портрета, два из которых как бы знаменуют начало и конец творческого пути художника: 1714 г. – портрет племянницы Петра Прасковьи Иоанновны, 1726 г. – портрет графа Сергея Строганова (оба – ГРМ). Кроме того, в Италии недавно найдены два парадных парных портрета Петра I и Екатерины (1717, Флоренция). Остальные произведения связывают с именем Никитина прежде всего сама их живопись и некоторые документальные свидетельства.
На первом из подписных портретов изображена младшая дочь царя Ивана Алексеевича и царицы Прасковьи Федоровны, одна из трех «измайловских царевен», как их называли по месту обитания в девичестве во дворце села Романовых Измайлово. Старших ее сестер Петр, преследуя политические цели, своею волей выдал замуж: Екатерину Иоанновну – за герцога Мекленбургского (как известно, она была несчастлива в браке), Анну Иоанновну – за герцога Курляндского (которая стала вдовой почти сразу после свадьбы). Младшая сестра, Прасковья Иоанновна, «хроменькая», болезненная и слабая здоровьем, как отмечали современники, долго противостояла железной воле царя и в итоге вступила в морганатический брак с любимым человеком – сенатором И. И. Дмитриевым-Мамоновым уже после смерти императора.
На портрете Никитина Прасковье Иоанновне 19 лет, ее замужество еще впереди. Она облачена в синее с золотом парчовое платье, на плечах красная с горностаем мантия. Фон портрета нейтральный, темный. В нем все противоположно манере и характеристикам караваковского двойного портрета царевен Анны и Елизаветы, хотя, напомним, оба произведения разделяет всего три года. В портрете Никитина нарушены многие из общепринятых (в европейском понимании, т.е. в понимании нового искусства) смысловых и композиционных особенностей станковой картины. Это прежде всего сказывается в отходе от анатомической правильности, прямой перспективы, иллюзии глубины пространства, светотеневой моделировки формы. Очевидно лишь тонкое чувство фактуры – мягкость бархата, тяжесть парчи, изысканность шелковистого горностая, – которое, не забудем, уже хорошо было знакомо живописцам прошлого столетия. В живописной манере ощущаются старые приемы высветления («вохрение по санкирю») от темного к светлому; поза статична, объем не имеет энергичной живописной лепки; насыщенный колорит построен на сочетании мажорных локальных пятен: красного, черного, белого, коричневого, изысканно мерцающего золота парчи. Лицо и шея написаны в два тона: теплым, одинаковым везде в освещенных местах, и холодновато-оливковым – в тенях.
Цветовые рефлексы отсутствуют. Свет ровный, рассеянный. Фон почти всюду плоский, лишь вокруг головы несколько углублен, как будто художник пытается строить пространственную среду. Лицо, прическа, грудь, плечи написаны скорее еще по принципу XVII в. – как художник «знает», а не как «видит», стараясь внимательно копировать, а не воспроизводить конструкцию формы. Складки ломкие, прописаны белыми штрихами, немного напоминающими древнерусские пробела. На этом фоне неожиданно смело написана парча, с ощущением ее «вещности». И все роскошные великокняжеские одежды лишь сдержанно отмечены деталями, в той мере, насколько это необходимо мастеру для репрезентации модели.
Но главное отличие портрета – не в смешении приемов и своеобразии лепки формы. Главное заключается в том, что здесь уже можно говорить об индивидууме, индивидуальности, – конечно, в той мере, в какой она присутствует в модели. В портрете Прасковьи Иоанновны читается свой внутренний мир, определенный характер, чувство собственного достоинства. Центром композиции является лицо с печально глядящими на зрителя большими глазами. Про такие глаза говорят, что они – «зеркало души». Плотно сжатые губы, ни тени кокетства, ничего показного нет в этом лице, а есть погружение в себя, что внешне выражено в ощущении покоя, статики: «Прекрасное должно быть величаво». Портрет Прасковьи Иоанновны занимает особое место в отечественном искусстве. Во-первых, это портрет европейского типа. Во-вторых, как верно подмечено исследователями, в его художественных достоинствах присутствует яркая заявка на блестящую будущность русского портрета XVIII в.
Аналогично написан и портрет родной сестры Петра, Натальи Алексеевны (1714–1715, не позднее самого начала 1716; ГТТ; повторения-копии – ГРМ, ГМЗ «Павловск»), близкий портрету Прасковьи Иоанновны по композиционному и колористическому строю, по лепке формы и с таким же вниманием к лицу, правда, уже не молодому, со следами болезней, но с тем же внутренним напряжением. Наталья Алексеевна была любимой сестрой Петра, всегдашней сторонницей его реформ и вообще одной из образованных женщин своего времени. Она много читала, интересовалась театром, даже сама для него сочиняла. Об этом, в частности, упоминает в своих записках граф Бассевич, министр бывшего при петербургском дворе голштинского герцога: «Принцесса Наталия, меньшая сестра Императора, очень им любимая, сочинила, говорят, при конце своей жизни две-три пьесы, довольно хорошо обдуманныя и не лишенные некоторых красот в подробностях; но за недостатком актеров они не были поставлены на сцену» (Бассевич Г. Ф. Записки графа Бассевича, служащие к пояснению некоторых событий из времени царствования Петра Великого (1713–1725) // РА. 1865. Ч. 5-6. С. 601).
Никитин писал Наталью Алексеевну незадолго до ее смерти (она тяжело болела и умерла, когда ей было чуть больше сорока), отсюда, возможно, печать грусти на ее чуть одутловатом, с желтизною лице, что не скрылось от зоркого глаза художника. Поездка в Италию мало что изменила в творческих принципах Никитина. Несомненно, его рисунок стал изощреннее: не «проваливается» плечо модели, верно списано лицо с шеей или шея с торсом и т.д. Пенсионерство освободило его от скованности, свойственной старой русской живописи. Но мировоззрение художника, его понимание задач искусства, взгляд на человека не изменились. Он лишь обогатился знанием всех тонкостей европейской техники.
Пятилетие по возвращении из-за границы, как уже отмечалось, – триумфальный и последний период творчества Никитина. Он пишет своего знаменитого «Напольного гетмана» (ГРМ). Мы не знаем, кто этот человек. Исследователи называют ряд имен – от Мазепы, Полуботка, Скоропадского, Апостола до графа Казимира Яна Сапеги, но ни один из них не вписывается в этот почти трагический образ находящегося как бы наедине с собой, думающего горькую думу человека. Он небрежно облачен в коричневый с золотым позументом кунтуш с розовыми отворотами и свободно расстегнутую рубашку, волосы растрепаны. Запавшие глаза с покрасневшими веками под седыми нависшими бровями напряженно вглядываются не вдаль, а в глубь себя, красноречиво передавая мучительное состояние души. Кто бы ни был этот человек, так мог его изобразить только очень большой мастер, которому под силу сложные психологические характеристики.
С. О. Андросов высказал смелое суждение о том, что это автопортрет художника. Несомненно, такая атрибуция требует дополнительных доказательств. Но признаемся, что в легкости и свежести, какой-то незаконченности, как бы незавершенности живописи и при этом совершенно конкретной характеристике модели, мужественной, благородной, полной скрытой энергии, осознания своей роли, своего «самочувствия», по удачному выражению одного автора, ощущается человек новой эпохи петровских реформ. Мы понимаем исследователя: в этом персонаже хочется видеть тот образ художника, который сложился по документам, – собеседника Петра во время их общих путешествий и сеансов работы над портретами, человека, разделяющего взгляды великого государственника.
К тому же технико-технологическое исследование портрета (ГРМ, С. В. Римская-Корсакова) дает нам некоторые дополнительные штрихи: портрет написан на обороте использованного холста (изображены какие-то головки), а вряд ли такое возможно при официальном заказе. При этом почерк, сама техника – никитинская, знакомая по его «эталонным», подписным вещам. Вспомним также о многовековой традиции галереи автопортретов по заказу герцогов Медичи в музее Уффици, а ведь Флоренция – город, где учился Никитин, и не к кому-нибудь, а к Козимо III Петр посылал рекомендательное письмо о своих первых художниках-пенсионерах.
Нам очень хочется принять атрибуцию исследователя. Единственное, что вызывает большое сомнение, – датировка портрета началом 1730-х гг. В этот период художник был в таком переплете московско-петербургских государственных и семейных неурядиц, что вряд ли мог создать столь глубоко проникновенное произведение (разве что конкретно в более спокойной первой половине 1732 г.). Впрочем, на что не способен талант? Искусствоведение развивается, как и всякая наука. Время и вновь обнаруженные документы, может быть, найдут новые аргументы в пользу версии ученого. Мы будем этому только рады.
И. Н. Никитин. Портрет напольного гетмана. 1720-е, ГРМ
За небольшой по времени творческий период Иван Никитин показал себя очень разным. Первый отечественный мастер Нового времени легко и естественно лепит форму, свободно и уверенно создает иллюзию пространства вокруг фигуры государственного канцлера графа Гавриила Ивановича Головкина в полупарадном портрете (1720-е, ГТГ), написанном после возвращения из пенсионерской поездки и впервые представленном как произведение Никитина на Таврической выставке 1905 г. Это поясное изображение, в котором большое внимание уделено регалиям: Андреевской ленте, голубому банту ордена Белого Орла и пр. Все вещноосязаемо, хотя прописано широко и уверенно: коричневый кафтан на сиреневой подкладке, золотой позумент, белая рубашка и шейный платок, длинные локоны роскошного парика (про который в дневнике камер-юнкера Бергхольца не без юмора написано, что Головкин, возвратясь домой, водружал его на стену как украшение). Но по-нрежпему для живописца главным остается лицо – с внимательным взором, немолодое, усталое лицо человека, познавшего все тайны мадридского (то бишь русского) двора. Здесь то же предельное внутреннее напряжение, та же душевная сосредоточенность, почти меланхолия, что и в портретах доитальянского периода. Портрет Головкина близок им и общим композиционным решением, постановкой фигуры в пространстве, красочной гаммой. Все внимание мастера сосредоточено на липе, вполне отвечающем характеристике, которую давали его модели современники: «Граф Головкин, государственный канцлер, старец почтенный во всех отношениях, осторожный и скромный: с образованностью и здравым рассудком соединял он в себе хорошие способности. Он любил свое отечество, и хотя был привязан к старине, не отвергал и введения новых обычаев, если видел, что они полезны <…> его подкупить было невозможно: посему-то он держался при всех Государях и в самых затруднительных обстоятельствах, так как упрекнуть его нельзя было ни в чем» (Герцог Лирийский. Записки дюка Лирийского и Бервикского во время пребывания его при императорском российском дворе в звании посла короля испанского. 1727– 1730 годов // РА. 1909. Кн. 1. Вып. 3. С. 399).
Возможно, именно Головкина подразумевал Петр в письме к Екатерине, советуя использовать искусство Никитина в портрете не только короля, но и «свата»: Головкин принимал участие в заключении брака как Алексея Петровича с принцессой Шарлоттой, так и Екатерины Иоанновны с герцогом Мекленбургским.
Неожиданный образ создает Никитин в портрете Сергея Строганова, младшего сына знаменитого Григория Строганова, – последнем по времени, как уже упоминалось, известном нам подписном портрете мастера (1726, ГРМ). В науке этот портрет появился рано: еще в 1804 г. его упоминает И. А. Акимов в «Кратком историческом известии о некоторых российских художниках» (см. мартовский выпуск «Северного вестника» за 1804 г.). На портрете изображен 19-летний юноша. Еще далеко впереди его успешная государственная и военная служба (камергер, генерал-лейтенант), покровительство императрицы Елизаветы Петровны. Далеко еще и до того времени, когда Растрелли построит для него роскошный дворец на углу Мойки и Невского проспекта, где владелец разместит прекрасную картинную галерею, позднее успешно пополненную его сыном Александром, будущим президентом Академии художеств. Все это отделяют годы и годы. На портрете же в композиции излюбленного художником живописного овала в прямоугольнике представлен изящный, немного жеманный кавалер, завидный жених, желанный посетитель ассамблей и прочих увеселений, которым живо предались после снятия траура по великому императору, ретиво сменяя балы и фейерверки на катания по Неве.
Источник света в портрете находится вне плоскости холста, сверху слева, – освещает волосы, дает блики на стальную кирасу. Взор Строганова томный и рассеянный, легкая улыбка трогает губы. В наклоне головы, развороте туловища господствует барочно-рокайльный ритм, которому соответствует и изысканный колористический строй: коричнево-розовые тона (в плаще, небрежно перекинутом через правое плечо), черные (в латах, придающих нечто романтично-рыцарственное облику модели), золотистые (в слегка припудренных волосах, ложащихся красивыми естественными кудрями). Возможно, художник имел определенную «программу» решения образа, исходящую от самого заказчика. Не исключено, что граф Строганов специально заказал портрет в это трудное для живописца время – сразу после смерти императора, когда Никитин потерял прежних высоких покровителей и заказчиков, – и выразил желание быть изображенным в соответствии с новой модой и вкусами. Но и сквозь эту жеманную рокайльную оболочку, томную позу элегантного придворного видна скрытая энергия и жадная заинтересованность жизнью.
Настроением глубокой, самой искренней личной скорби и величавой торжественности исполнено изображение Петра I на смертном ложе (1725, ГРМ). Написанное как будто в один сеанс, как этюд, почти а 1а prima, оно дает нам яркое представление о манере письма художника. Виртуозными, легкими жидкими мазками, сквозь которые просвечивает красно-коричневый грунт (который почти всегда использовал Никитин), он пишет белую рубашку, желтоватую драпировку, синюю с горностаем мантию. На белую подушку ложатся розоватые отблески погребальных свечей. Экономично, с высочайшим профессионализмом использует здесь художник цвет грунта. Зеленоватые тени скользят по лицу, придавая ему выражение не спокойствия сна, а упокоения смерти. Петр для Никитина был не просто император, а человек близкий, чья смерть стала огромной утратой. Под кистью мастера живописное произведение звучит как реквием. И как реквием звучат проникновенные слова современного историка: «Он был смертным человеком, и судьбе было угодно обречь его на тяжкую смерть. В ней было много символичного и неясного, как и в судьбе России, которой предстояло жить без Петра» (Анисимов Е. В. Время петровских реформ. Л., 1989. С. 70).
Мы специально отвели в конец немалой никитинской иконографии Петра I его знаменитый портрет в круге (ГРМ). Долгое время портрет вызывал у некоторых исследователей сомнение в его принадлежности кисти Ивана Никитина, прежде всего потому, что это изображение «всплыло» в научной литературе поздно – в 1872 г. в работе А. А. Васильчикова «О портретах Петра Великого» (М., 1872. С. 107) как оригинальное произведение, вероятно, списанное с натуры, художника талантливого, но неизвестного. Технико-технологическое исследование также выявило некоторые отличия от приемов Никитина, прежде всего светлый («свечной», по жаргону реставраторов) масляный грунт, как бы не использованный мастером и вообще в отечественной живописи первой четверти XVIII в. Но открытые в наше время портреты, о которых речь пойдет ниже, опровергли последнее суждение.
Однако большинство искусствоведов и не сомневались в руке Ивана Никитина. Трудно предположить, кто еще мог бы создать образ такой глубины, силы, величия и вместе с тем такого трагического духовного одиночества, кроме человека, близко знавшего императора и искренне любившего его. Из темного фона на нас надвигается «лик» Петра – круглое, несколько одутловатое лицо с таким трагическим выражением темных глаз под густыми черными бровями, что это и позволяет назвать его «ликом». Некоторые исследователи связывают этот портрет с записью в походном журнале Петра от 3 сентября 1721 г.: «На Котлине острову перед литургией писал его величество персону живописец Иван Никитин». Нам представляется, что портрет скорее мог быть исполнен позже, вероятнее всего, в последний год жизни императора, омраченный болезнями, семейными невзгодами, впервые коснувшимися его взаимоотношений с Екатериной, а главное – невеселыми мыслями и прежде всего одной, непрестанно преследовавшей царя: на кого оставляет он Россию, эту «недостроенную храмину» (выражение Феофана Прокоповича).
В последние годы XX в. в научный оборот были введены еще два портрета Ивана Никитина – парные парадные изображения Петра и Екатерины, обнаруженные во Флоренции в галерее Уффици сотрудником Эрмитажа В. Ю. Матвеевым в 1986 г. (тезисы опубликованы им в 1989 г.). На обороте холста присутствует надпись: «GIOV.MOSCOVIT IN FIRENZE A DОM.1717″LUGL 23», которую Матвеев рассматривает как никитинскую подпись, а сам портрет – как подарок русского царя Козимо III Медичи. Надпись о «Джов. Московите», совсем как будто несвойственная Никитину, вызывает сомнение у некоторых исследователей. Но он действительно «московит» (т.е. москвич) и по-итальянски «Джованни».
Портреты экспонировались на выставке «Произведения русских художников из итальянских собраний» в Русском музее в 1991 г. и воспроизведены (в цвете) в каталоге выставки. Годом ранее они были опубликованы в работе Н. В. Калязиной и Г. Н. Комеловой «Русское искусство петровской эпохи» (Л., 1990). Однако мнение авторов монографии о том, что Никитин привез эти произведения из России, опровергает С. В. Римская-Корсакова, проводившая технико-технологическое исследование портретов (которое, кстати, выявило бесспорность руки Никитина). Ни тип холста (грубозернистого, джутового, который тогда не знали в России), ни двухслойный грунт (причем нижний слой белый, на котором Никитин никогда не писал до Италии), а главное, ни сама техника письма – в полутонах (вместо привычного для петровских мастеров метода высветления), по так называемому оттененному грунту, известная именно в Венеции уже с XVII в., а в России появившаяся только в середине следующего столетия, не подтверждают первоначального предположения исследователей о том, что портреты писались еще в России. Благодаря этой технике портреты и светлее, и наряднее других произведений Никитина.
Парные портреты Петра I и Екатерины свидетельствуют о прекрасном знакомстве художника с общеевропейской схемой барочного репрезентативного портрета. Петр изображен в доспехах и с орденом Андрея Первозванного, Екатерина – в парчовом, украшенном драгоценностями платье и с орденом Св. Екатерины. Красные, подбитые горностаем мантии усиливают нарядность облика. Портреты вполне достойно представили в Европе и монаршую чету, и русского художника.
С. О. Андросов, автор монографии о Никитине, высказывает предположение о том, что портреты выполнялись группой художников, вероятно, теми же пенсионерами 1716 г. – Р. Никитиным, М. Захаровым, Ф. Черкасовым при руководстве и лишь частичном участии Ивана Никитина, возможно, еще в Венеции, а потом были привезены оттуда во Флоренцию. Но исследование обнаружило подлинную руку именно Ивана Никитина, а недоумения по поводу некоторой грубой моделировки, особенно в женском портрете, объясняются посторонними вмешательствами. Документа о даре Петра портретов Козимо Медичи пока не обнаружено, однако известно, что уже в январе 1718 г. портреты были в его коллекции, а в феврале того же года – в галерее Уффици.
Бесспорно никитинским является еще один портрет – неизвестного в зеленом кафтане. Г. Е. Лебедевым, старейшим сотрудником Русского музея и большим вещеведом, портрет был некогда определен как возможное произведение Андрея Матвеева. Правда, в каталоге ГРМ тех лет портрет значился как работа неизвестного художника, изображающего молодого человека в голубом кафтане, в то время как кафтан зеленый: грубые записи и толстый слой желтого лака исказили зеленый цвет, хорошо видимый и под микроскопом, и при химическом анализе.
Т. В. Ильина и С. В. Римская-Корсакова, авторы монографии об Андрее Матвееве (М., 1984), провели тщательный стилистический и технико-технологический анализ полотна. Они пришли к выводу, что, несмотря на плохую сохранность, живопись несет черты несомненного почерка Ивана Никитина (темно-коричневый грунт, привычный для мастера; характерные короткие диагональные мазки, след излюбленной мастером щетинной кисти; пастозная живопись, хорошо видимая в нетронутых временем местах, например на жилете). Фигура молодого человека, изображенного как бы в момент остановленного движения, вписана в овал. От розовой подкладки расстегнутого кафтана на лицо словно падают отсветы. Повсеместно просвечивающий в тенях лица розово-красный грунт наполняет весь портрет горячим светом. Композиционное построение портрета, его размер, поворот головы молодого человека, драгоценные по красоте участки сохранившейся авторской живописи на цветистом жилете указывают на связь с самыми известными работами Никитина – портретом Строганова и «Напольным гетманом».
Авторами монографии высказывалась гипотеза о возможности увидеть в этом молодом человеке, находящемся в расцвете сил, полном бодрости духа и надежд, внимательно вглядывающемся в мир, изображение мастера Андрея Матвеева, который с 1728 по 1732 г. работал на украшении Петропавловского собора, а Иван Никитин вместе с М. Г. Земцовым и Д. Трезини принимал работы его артели. Или еще вернее, это могла быть первая половина 1732 г., когда Никитин вернулся в Петербург и разнообразные серьезные жизненные неурядицы на время оставили его в покое. Авторы предлагали такую версию лишь как соблазнительную гипотезу, требующую и дополнительных архивных, и повторных технико-технологических исследований. Но пока портрет остается изображением неизвестного молодого человека руки совершенно определенного мастера – Ивана Никитина.
Роман Никитин (1691 – 1753), во всем разделивший судьбу своего знаменитого старшего брата – от пенсионерства до ссылки в Тобольск, возвратился в Москву в 1742 г., где и прожил вплоть до кончины. Помимо портретов он работал в декоративной живописи, например известно его участие в оформлении триумфальных ворог в Москве по случаю мира со Швецией (1721), в «подновлении» живописи ворот у Анненгофского дворца, в писании образов для московского Златоустовского монастыря. Его сын, Петр Романович Никитин (1727–1784) стал архитектором и работал под началом Ф. Б. Растрелли.
С именем Романа Никитина в науке связывали некогда два портрета, оба неподписных: Марьи Яковлевны Строгановой, урожденной Новосильцевой, второй жены «именитого человека» Григория Строганова (ГРМ), и портрет (под вопросом) самого Григория Строганова (Одесский художественный музей), который был представлен на выставке «Портрет петровского времени» в 1973 г., но уже тогда был в очень плохом состоянии, совершенно не экспозиционен, теперь же в нем невозможно вообще опознать чью-либо руку.
Портрет М. Я. Строгановой исследователи относят к периоду между 1721 и 1724 г., но вполне допустима и более поздняя датировка, так как само ее портретирование стало возможным только после 1722 г., когда с нее была снята опала: имя Строгановой связывается с окружением Евдокии Лопухиной и делом царевича Алексея. Она не случайно облачена на портрете в старомосковское платье, узорное, украшенное жемчугом и драгоценными камнями, отделанное кружевом на рукавах, и в коричневую шубу, шитую серебром и золотом, с меховой опушкой по борту. Однако на голове у нес модный тогда в Европе высокий убор из плоеных кружев, с виду напоминающий кокошник. На груди у Строгановой – миниатюрный портрет Петра I в оправе с бриллиантами, «наградной знак», который уж никак не мог быть дарован ей, когда она была в немилости. Портрет менее артистичен и свободен, чем произведения Ивана Никитина; его архаизм еще более усиливается общим «старобоярским» покроем платья.
Андрей Матвеев – глава живописной команды в 1730-е годы, мастер монументальной живописи и портретист
Роман Никитин вряд ли был художником, знаменующим новое направление в отечественном искусстве. Линию его брата, Ивана, продолжает не он, а художник, получивший образование в Нидерландах, – Андрей Матвеев (1701/1702–1739). Именно он обогатил отечественное искусство достижениями европейской живописной школы. Мы не знаем точной даты его рождения, ибо вычисляем ее только по исповедным книгам; нам неизвестны его родители и потому до сих пор неизвестно его отчество. Но достоверно установлено, что его сестра была в штате прислуги Екатерины I, вот почему он был отправлен в 1716 г. в обозе царицы, «на пятнадцатом году жизни», как сам указывал позже в своей челобитной, в Голландию перед последним знаменитым путешествием царской четы по Европе. В Голландии Матвеев сначала учился в Амстердаме у довольно известного художника-портретиста Арнольда Бооиена, а с конца 1723 г. переехал в «Брабандию», в Антверпенскую королевскую академию художеств, овеянную славой Рубенса и всей фламандской школы предыдущего столетия, чтобы постигнуть тайны мастеров, создававших исторические и аллегорические картины. Здесь он остается до 1727 г., т.е. до кончины своей покровительницы Екатерины I. В архиве академии сохранился документ от 6 декабря 1723 г. о зачислении Андрея Матеева в ученики к некоему Сперверу. Фамилия Матвеева сначала писалась как «MATSCHES», а затем была переправлена на «MATWJEFT».
Сохранились и документальные данные об 11-летнем пенсионерском периоде обучения Матвеева, счета, которые оплачивало русское государство за живописца. Он учился и портретописи, и монументальной живописи, а по возвращении в Россию, освидетельствованный Л. Караваком, который отмечал, что Матвеев хорошо пишет «персону» и имеет больше «силу в красках нежели в рисунке», был сразу же приглашен участвовать в создании живописных образов и общем оформлении Петропавловского собора. Здесь он выступает как инвентор – делает «модели», т.е. эскизы образов-картин, украшающих храм (не иконостас!), а кроме того, «свидетельствует» вместе с «персонных дел мастером» Иваном Никитиным и архитекторами Д. Трезини и М. Г. Земцовым работы других художников. Непосредственно с именем Матвеева в наше время связывают картину «Моление о чаше», отличающуюся колористической цельностью и живописной мягкостью, а также овальную композицию «Тайная вечеря» в сени над престолом. И хотя интерьер собора был завершен в самом начале царствования Анны Иоанновны, он целиком детище петровской эпохи, как и триумфальные ворота в честь ее въезда в столицу (об этой стороне деятельности Матвеева подробно говорилось в предыдущей главе).
Несомненно, Матвеев занимался и станковой живописью, прежде всего, конечно, портретом, недаром в Голландии он учился у портретиста Боонена. Но до нас дошло несколько станковых произведений живописца и иного жанра. Первое из них – картина «Аллегория живописи». На ее обороте написано: «ТЩАНIЕМ АНДРIЕА MATBIEEBA: 1725: ГОДУ». Это первое русское произведение станкового характера на аллегорический сюжет. Сама Аллегория представлена в виде полуобнаженной женской фигуры, сидящей за мольбертом в окружении амуров, рассматривающих рисунок, среди предметов, символизирующих науку и искусства (глобус, гипсовый бюст для штудий и пр.). Летящей в облаках в шлеме и с копьем Минерве художник (то бишь Аллегория живописи) придает на холсте черты Екатерины I. Такая метаморфоза не должна удивлять, если вспомнить, что Матвеев послал, видимо, именно это произведение императрице с челобитной, содержащей просьбу продлить его обучение после смерти императора, для чего ему необходимо было продемонстрировать свое мастерство («нечто от плода учения моего ради показания моего рачения к сему художеству» – писал он в челобитной). Это было в духе времени.
Небольшого формата картина несет в себе отпечаток фламандской школы позднего барокко и выявляет большое колористическое дарование художника. Живопись, в отличие от никитинской, тонкая, прозрачная, не щетинной, а беличьей кистью; красочный слой тонко нанесен на грунтованную паркетированную доску. Многие исследователи отмечали недостатки «Аллегории…» (погрешности в рисунке, отсутствие живописного единства) и обвиняли Матвеева в подражании то Клаасу ван Схору, то Якобу де Виту. Многие искали в картине черты, родственные нидерландским художникам, с определенной целью: найти имя учителя Матвеева. Но даже сегодня, когда это имя известно и не совпадает с именами названных знаменитых и модных живописцев того времени, нельзя не увидеть сходства «Аллегории живописи» с картинами Адриана Ван дер Верфа, что заметил еще А. Н. Бенуа. Это сходство прослеживается и в несколько пестром колорите, и в заглаженной манере письма, и даже в некоторой слащавости общего впечатления. Написанная всего через год с небольшим обучения в академии, картина Матвеева, естественно, не свободна от ученичества и подражательности. Не случайно после шести лет занятий в Амстердаме у Арнольда Боонена, портретиста по преимуществу, Матвеев отправился учиться в Антверпен: России нужны были художники широкого профиля, что нашло отражение в предписаниях самого Петра. Кроме того, в протестантской Голландии все-таки не было столь благоприятной почвы для развития (и обучения) религиозной и аллегорической живописи; иное дело – католическая Фландрия.
Однако при всех недостатках не увидеть в «Аллегории…» того, что отличает ее от произведений иностранных мастеров, нельзя. В ней нет блеска Ван дер Верфа, но есть большая теплота и задушевность, искренность молодого художника, пришедшего из огромной страны с едва зародившимися «художествами» в том смысле, как их понимали в Европе. Вместе с робостью ученика, восхищенного открывшимся ему миром новой живописи, в картине есть и гордость за собственное искусство. Ведь в этой небольшой картине, с сюжетом чрезвычайно банальным для Европы, русский художник видел цель и смысл, мечту, почти не скрытую иносказанием аллегории: Минерва (Екатерина I) благожелательно и заинтересованно смотрит на музу живописи, спокойно и уверенно сидящую перед мольбертом. Это не просто аллегория искусства: в ней выражена надежда на будущее всей русской культуры. Таким образом, маленькая аллегорическая картинка с незамысловатым сюжетом стала вехой на пути освоения русским искусством общеевропейского художественного языка, соединив в себе новую европейскую науку с серьезностью и искренностью национального чувства. Портретная традиция к тому времени уже сложилась, а с «Аллегории живописи» Матвеева начинается развитие станковой картины – в европейском понимании этого слова.
Матвееву же принадлежит и небольшой этюд (ГРМ), изображающий Венеру с Амуром, – доказательство хорошо усвоенных уроков в духе Николя Пуссена. Поколенная полуобнаженная фигура Венеры повернута вправо, голова ее склоняется к Амуру, которого она обнимает правой рукой. На левое плечо ее накинут желтый плащ. Рисунок не имеет погрешностей, строго выверен; в нем чувствуется добротность академической выучки. Манера письма тонкая, деликатная.
Но самым интересным из оставшегося наследия Андрея Матвеева являются его портреты. Первый из них – портрет Петра в так называемой немуаровой ленте – долго числился за Карелом де Моором, голландским живописцем, который в 1717 г. писал парные портреты Петра и Екатерины. Матвеевский портрет, вероятно, исполнявшийся молодым художником как вольная копия с Моора (возможно, Матвеев брал у него уроки, будучи в Амстердаме), хранился в XIX в. в Романовской галерее Зимнего дворца и упоминался в дворцовых описях до 1859 г. Затем указания о нем исчезают, и уже в 1872 г. в каталоге А. А. Васильчикова он представлен как портрет кисти дс Моора. Таковым он фигурировал и на Таврической выставке 1905 г. у С. П. Дягилева. Однако сравнительный анализ портретов, гравюрных изображений, а главное – анализ и технико-технологическое исследование написанного де Моором в 1717 г. парного портрета Екатерины, купленного Эрмитажем в 1956 г., показавшее совсем другой «мооровский» почерк, – все это внесло ясность в создавшуюся ситуацию. Интересно, что никого из музейных работников не насторожил даже такой факт: эрмитажный «Петр», считавшийся в XX в. произведением де Моора, по размеру не подходит к якобы парному к нему портрету Екатерины.
Обнаружение на аукционе «Русское искусство» в Париже в 1982 г. подписного и датированного портрета Петра I кисти де Моора стало безоговорочным и окончательным доказательством принадлежности портрета Петра I из Эрмитажа – при полном его исследовании – Андрею Матвееву. Скорее всего, портрет де Моора был вывезен из России в середине XIX в. При устройстве экспозиций Эрмитажа по школам, в котором Николай I, считавший себя знатоком живописи, принимал самое живое участие, мооровский портрет уже, видимо, не могли найти, и Ф. А. Бруни (вряд ли преднамеренно, но, несомненно, оценивший профессионализм исполнения) принял (и представил) произведение Матвеева как портрет знаменитого голландца (о запутанной, почти детективной истории атрибуции этого портрета см.: Ильина Т. В., Римская-Корсакова С. В. Андрей Матвеев. М., 1984).
По возвращении в Россию Андрей Матвеев почти сразу же получает заказ от князя И. А. Голицына на парные портреты князя и его жены (подписные и датированные; 1728, частное собрание И. В. Голицына в Москве). Оба портрета исполнены в традиционной композиции живописного овала в прямоугольнике, знакомой еще по Преображенской серии. Иван Алексеевич Голицын, брат известного деятеля первых лет петровского царствования Б. А. Голицына, стольник царя Ивана Алексеевича, был малозанятной личностью и вряд ли заинтересовал художника, хотя тот и пытался несколько романтизировать свою модель, облачив ее в латы и накинув красный плащ. Зато Анастасия Петровна Голицына, урожденная княжна Прозоровская, статс-дама и «князь-игуменья Всепьянейшего сумасброднейшего собора», привлеченная в 1718 г. по делу царевича Алексея и чуть ли не битая батогами, а через несколько лет, в 1722 г., вновь приближенная Екатериной, давала художнику большую пищу для размышлений.
В 1728 г., когда создавался портрет, Анастасии Петровне было уже много лет. Исследователи, писавшие об этом портрете, считали, что художнику удалось передать характер модели – «бабы пьяной и глупой». Думается, что характеристика Матвеева значительно богаче. При всей парадности и роскоши аксессуаров (красное платье, сколотое золотой брошью, драгоценные камни застежки, скрепляющей коричневую бархатную накидку-плащ, бриллиантовая оправа миниатюры с изображением царя) на портрете представлена женщина, прожившая жизнь, полную унижений. По воле Петра она была шутихой Екатерины I, и приходно-расходные книги «кабинетным суммам» пестрят такими упоминаниями имени княгини Голицыной: «Будучи в Ревеле дано по приказу господина вице-адмирала Настасье Голицыной, что ее по рукам били, 10 червонных» (1715); «В Шверине царское величество пожаловало княгине Настасье Голицыной за вытье 20 червонных» (1716); «1722 год. Настасье Голицыной за то, что она перед их величеством плакала, 15 червонных»; «1725 год. Октября в 19 день. В вечернее кушанье указало ее величество государыня императрица пожаловать светлейшей княгине Голицыной 15 червонных, за которые червонные выпила она большой кубок виноградного вина; в числе положено в другой кубок 5 червонных, которой она не выпила, и оные червонцы отданы муншенку…»
Ни Петр, ни Екатерина, видимо, не могли до конца простить шутихе Голицыной ее участие в деле с царским сыном. Только когда уже не было в живых ни императора, ни императрицы, в недолгий срок единовластия А. Д. Меншикова и менее чем за месяц до его падения 17 августа 1727 г., княгине Голицыной возвратили ее доходы, и стал возможен заказ на парные портреты. Матвееву удалось передать в лице Голицыной выражение недоумения, обиды и жалобы. Взгляд ее представляется не надменным, как пишут некоторые исследователи, а грустным и усталым; в ее лице видна тончайшая смесь брюзгливости и почти детской незащищенности. Это тем удивительнее, что сохранена схема парадного портрета: разворот плеч, гордо посаженная голова, необходимые аксессуары одежды. Не осуждение, но сочувствие к изображенной модели передал нам художник, и в целом создается не категорическая характеристика, а как бы приглашение к размышлению.
Самое известное произведение Андрея Матвеева – «Автопортрет с женой», датируемый предположительно 1729 г., временем их женитьбы. Художнику тогда было не более 27 лег, а Ирине Степановне, дочери кузнечного мастера С. Антропова, – 15 или 17. «Автопортрет…» был подарен Академии художеств в 1808 г. сыном живописца, В. А. Матвеевым. С этого времени он прочно вошел в историю русского искусства, заняв в нем выдающееся место не только благодаря своим художественным достоинствам, но и самой темой, своим поэтическим образом – дружественного и любовного союза непреходящей общечеловеческой ценности, передачей того глубоко сокровенного, о чем никогда не решалось поведать средневековое старомосковское искусство. Исследователь в этой связи пишет: «С каким удовольствием он отмечает певучую линию ее шеи, гибкие музыкальные руки, чуть приметную улыбку на губах, слегка приглушенный блеск глаз. Трепетный жест соединившихся рук, легкое касание плеч, еле уловимый поворот навстречу друг к другу – земная человеческая радость» (Андреева В. Г. Андрей Матвеев // Русское искусство первой четверги XVIII века. Материалы и исследования / под ред. Т. В. Алексеевой. М., 1974. С. 152).
Композиция портрета, по сути, очень проста. В прямоугольном формате холста практически симметрично расположены фигуры автора и его жены. Портретируемые смотрят спокойно и благожелательно, женщина – прямо на зрителя, мужчина – почти в трехчетвертном повороте. Во взгляде его чувствуется напряжение, та особая зоркость, которая характерна именно для автопортрета, когда художник всматривается в свое отражение в зеркале. Еле уловимое движение достигается положением мужских рук: от левой его руки, легко касающейся плеча жены, но диагонали движение развивается далее к правому нижнему углу полотна, где соединяются женская и мужская руки. Кажется, что художник как бы выводит жену вперед и представляет ее зрителю, отодвигаясь сам на задний план. Это движение прерывается жестом правой руки женщины, поднятой к груди, – своеобразная пауза, дающая зрителю возможность остановиться на ее лице. Все это исполнено в высшей степени деликатно, как деликатно и тонко (и в переносном, и в прямом смысле – тонкими беличьими кистями) исполнена сама живопись. Колорит, выдержанный в красновато-коричневой и серо-зеленой гамме, благородно прост и даже торжествен.
А. Матвеев. Автопортрет с женой. 1729, ГРМ
Некоторые исследователи (Н. М. Молева, Э. М. Белютин) высказывали сомнение по поводу лиц, изображенных на портрете. Один из аргументов, в частности, гаков: в России не было прецедента двойного семейного портрета. В России много чего не было и возникло в XVIII в. Не случайно именно Матвеев написал такой портрет: за 11 лет жизни в Нидерландах он мог видеть и видел, конечно, великолепные произведения этого жанра – знаменитые полотна Рубенса и Йорданса, Ван Дейка и Рембрандта. В матвеевском «Автопортрете с женой» нет искрящегося задора автопортрета Рембрандта с Саскией на коленях, нет рубенсовской роскоши одежд и откровенного любования моделью, как в автопортрете с Изабеллой Брандт, нет в нем и бюргерской добродетельности вандейковского семейного портрета из эрмитажного собрания. Задушевность и простота, доверчивость и открытость, необыкновенное целомудрие и душевная чистота – главные его черты.
Нельзя принять и другой аргумент – о «взрослости» молодой жены живописца. Это результат более поздних вмешательств в картину, ибо условия ее хранения были малоблагоприятны, что подтверждают резкие слова А. Н. Бенуа в адрес комиссии под председательством Ф. А. Бруни, занимавшейся комплектованием коллекций Эрмитажа (и в частности, русской коллекции) и оставившей «великолепный собственный портрет Матвеева догнивать в темном закоулке Академического Совета» (Бенуа А. Н. Русский музей императора Александра III. СПб., 1906. С. 11).
Современное технико-технологическое исследование портрета показало, что тонкая и прозрачная, очень «ранимая» живопись Матвеева местами грубо записана, выходя даже за места утрат, причем записи эти разного времени. Больше всего пострадало именно женское лицо: удлинен нос, «подведены» глаза, усилены и сделаны резкими линии рта. Интересно, что на рентгенограмме, как бы снимающей все временные наслоения, лицо Ирины Степановны с широкими скулами, курносым носом и широко раскрытыми глазами – совсем молодое. Милое девичье лицо. Не вдаваясь далее в подробности, напомним, что «Автопортрет с женой» у сотрудников Государственного Русского музея (куда он попал в 1925 г.) не вызывает сомнений в принадлежности его кисти Матвеева и по почерку, что, помимо технико-технологического, доказывает и сравнительный искусствоведческий анализ. Матвеев в этом произведении предстает перед нами большим мастером в расцвете своих творческих сил.
К сожалению, в результате стилистического анализа и технико-технологического исследования многие приписываемые ранее Матвееву портреты отведены от него в настоящее время (портрет Петра II, Анны Леопольдовны и др.). Однако за последние десятилетия найдено много икон круга Андрея Матвеева и его школы, дающих прекрасное представление об иконописи XVIII в., несомненно, достойной специального рассмотрения.
* * *
Подводя итог, мы вполне определенно можем сказать, что Иван Никитин и Андрей Матвеев были первыми русскими живописцами, прошедшими высокопрофессиональную школу общеевропейской выучки. Обмирщение, которого добивался Петр во всех сферах русской жизни, произошло в искусстве первой четверти XVIII в. в значительной степени благодаря усилиям этих мастеров. Кроме того, Матвеев, вставший во главе Живописной команды Канцелярии от строений, умело организовал работу в области монументально-декоративной живописи на всех основных архитектурных объектах Петербурга и его окрестностей. Он сумел превратить Живописную команду в настоящую художественную школу, имевшую влияние на все национальное искусство того времени, и подготовить таких живописцев, как Иван Вишняков и Алексей Антропов, творчество которых явилось своеобразным мостом к расцвету «художеств» во второй половине столетия. Но эта часть его творчества принадлежит уже аннинскому времени и будет освящена ниже.
И Никитин, и Матвеев сумели раскрыть в своих портретах неповторимость человеческой индивидуальности, однако сделали это каждый по-своему: Никитин более мужественно и резко, Матвеев – мягче и поэтичнее, в соответствии с особым стилем своей нежной и деликатной живописи. Когда Абрам Эфрос писал, что для «Аллегории живописи» и «Автопортрета с женой» совсем не обязательно русское происхождение, он был глубоко не прав. Для любого «западника» ясно: даже пенсионерские произведения Матвеева – не западные по духу, не говоря уже об «Автопортрете с женой» с его задушевностью, искренностью, простой и вместе с тем тонкой чувствительностью, что составляет отличительные черты многих произведений именно русского искусства.
Творчество Ивана Никитина и Андрея Матвеева являет нам яркий пример освоения европейской культуры, овладения приемами общеевропейского мастерства, но освоения на русской почве, при сохранении только ей присущего национального духа, будь то строгость, даже аскетизм никитинских или тонкая чувствительность матвеевских образов. Несколько позже, в середине столетия, другие мастера, такие как Иван Вишняков и Алексей Антропов, обучаясь дома и по старинке, во многом сохранили верность принципам старорусской живописи, чувство декоративности, идущее от народных истоков. Но и тс и другие в равной мере определили яркое и самобытное лицо русского искусства XVIII в. Благодаря взаимовлиянию этих двух линий, единству целей, стоявших перед художниками эпохи грандиозных петровских реформ, встряхнувших все идеологические, бытовые и культурные устои Московской Руси, отечественное искусство совершило столь мощный скачок вперед, не порывая с национальной культурной традицией.
Миниатюра на эмали: техника, основные художники-миниатюристы петровского времени
В петровский период развивается еще одна из разновидностей портретной живописи – миниатюра на эмали. Собственно, в Новое время в понятие «миниатюра» входит не только живопись на эмали, но и маленький портрет маслом на картоне, металле, дереве; водяными красками на пергамене, картоне, бумаге; классическим типом становится акварель или гуашь на кости. Характер любой такой миниатюры амбивалентен: она одновременно и произведение искусства, и бытовая вещь. В первой трети и даже в середине столетия эмалевая миниатюра исполнялась на металлической пластинке, чаще всего золотой или медной. Искусство эмали, особенно перегородчатой – финифти, как ее называли, – было известно еще Киевской Руси; расписные эмали имели широкое распространение в XVII в. Другими словами, как техника эмаль не нова. Но эмалевый портрет появился только с начала XVIII в. В петровское время он приобрел значение наградного царского знака.
Возможно, толчком к развитию миниатюры подобного рода техники и жанра послужила в первую заграничную поездку Петра сто встреча в Англии с эмальером Шарлем Буатом (1698). Им был исполнен портрет Петра по оригиналу Готфрида Неллера, тиражированный потом многими мастерами. По возвращении в Россию царь поспешил принять меры для обучения своих мастеров с целью использовать миниатюры на эмали как наградной знак. Например, на портрете Марьи Яковлевны Строгановой кисти Романа Никитина или Анастасии Петровны Голицыной, написанном Андреем Матвеевым, мы видим на груди моделей медальон с портретом Петра I в оправе из бриллиантов.
В петровское время в технике миниатюры на эмали много работали Григорий Мусикийский (1670/1671 – после 1737), который был сначала живописцем Московской Оружейной палаты, с 1711 г. – Оружейной канцелярии в Петербурге, затем Берг- и Мануфактур-коллегии (его имя встречается и в связи с монументально-декоративными росписями, например в Петропавловском соборе или «Сенатской зале»), и Андрей Овсов (1678/1680 – 1740-е), работавший в Оружейной палате в Москве и в Канцелярии от строений в Петербурге. Наиболее знаменитые портреты Мусикийского – овальные парные изображения Петра I на фоне Петропавловской крепости (1723) и Екатерины на фоне Екатерингофа (эмаль на золотой пластинке; 1724), исполненные в честь 20-летия основания Петербурга. Как правило, за образец в миниатюре на эмали брался какой-либо известный живописный портрет (для Петра, кроме Г. Неллера, чаще всего Л. Каравака, Я. Купецкого, позже К. де Моора, для Екатерины – Ж.-М. Натье).
То, что портрет на эмали предстает как «репродукционный» (Г. Н. Комелова), еще не означает его второстепенности, второсортности: другая техника, другой материал, другие приемы, масштаб приводили к творческому переосмыслению, а не к простому копированию. Например, в миниатюре Андрея Овсова изображение Петра I взято из гравюры А. Ф. Зубова, а тот, в свою очередь, исполнял его с «типа Яна Купецкого». Но и миниатюрное, и графическое произведение вполне самостоятельны. Григорий Мусикийский, по праву считающийся основоположником русской станковой миниатюры на эмали, в портрете Екатерины использует «тип» Ж.-М. Натье, а фон – изображение Екатерингофа – с гравюры А. И. Ростовцева. Мусикийский вводит также жанр группового портрета. Это статичные, застылые, плоскостные, но яркие, праздничные, нарядные, идущие от традиций эмали XVII в. композиции, например изображение семьи царя, исполненное еще до 1718 г. (так как там присутствует царевич Алексей), или «Конклюзия на престолонаследие» с аллегорической фигурой, подносящей корону царю (все – в Эрмитажном собрании).
Впоследствии миниатюрный портрет теряет свой государственный пафос и во времена Анны Иоанновны и Елизаветы Петровны, еще сохраняя функцию наградного знака, все чаще становится предметом семейного владения, приобретает все более камерный характер. Такие портреты (разумеется, уже не царских особ) делались для украшения ларцов, табакерок, шкатулок, их увозили с собой на память офицеры – участники Семилетней войны. Миниатюрный эмалевый портрет постепенно уступает место миниатюре гуашью или маслом на картоне (например, портретные миниатюры В. Л. Боровиковского), затем прочно и надолго – акварелью на бумаге (XIX в.). К середине XIX в. миниатюра вообще вытесняется фотографией: «Миниатюра умирает вместе с дворянством, ее породившим», – писал Н. Н. Врангель.
* * *
Таков в общих чертах путь русской живописи Нового времени на начальных этапах. В первой трети XVIII в. она оказалась представлена разными жанрами: станковой картиной и монументально-декоративными росписями светского содержания, самыми разнообразными видами портрета, включая миниатюрный. Ею были освоены все необходимые приемы искусства Нового времени, начиная от владения прямой перспективой, анатомией, светотеневой моделировкой до блестящего чувства фактуры, выявлению которой способствовало и освоение в общем новой для русской живописи масляной техники. Напомним, что все эти изменения произошли в невиданно короткие сроки, измеряемые не веками, а десятилетиями.
Скульптура первой половины XVIII века
Пути становления круглой скульптуры в русской пластике петровской эпохи
В скульптуре процесс обмирщения и освоения новых методов происходил медленнее, чем в других видах искусства, – слишком долго русские люди смотрели на круглую скульптуру как на языческих идолов, «болванов». По сути, в течение 800 лет существования Древней Руси развивался только рельеф: чаще – низкий (Киев, Чернигов, Москва, Владимир и Суздаль), реже – высокий (Владимир и Суздаль). Правда, и в первой половине XVIII в., и ранее существовала прекрасная полихромная деревянная скульптура Перми, Вологды, собственно московской школы. Однако это была не чисто круглая скульптура, а так или иначе связанная с фоном, но главное – она носила религиозное содержание. Светской же скульптуре суждены были иные пути развития, поэтому приглашенные обучать искусству ваяния иностранные мастера сыграли здесь более заметную роль, чем живописцы и графики. Посланные за границу пенсионеры учились в основном у Пьетро Баратта в Венеции. По возвращении домой, уже после смерти Петра, некоторые из них работали под началом Б. К. Растрелли над расчисткой после отливки в бронзе его «Анны Иоанновны с арапчонком», в парках Петергофа и на реставрационных работах в Летнем саду (А. Селиванов, А. Хрептиков).
Конечно, в какой-то степени к восприятию скульптуры светского характера русские люди были подготовлены произведениями, исполненными на отечественной почве: сочной барочной резьбой иконостасов церквей, пластикой церкви Знамения в Дубровицах, рельефами так называемой Меншиковой башни в Москве. Однако это был скульптурный декор, так или иначе связанный с церковным строительством. Русская же скульптура светского содержания впервые появилась в 1696 г. на въездных воротах Большого Каменного моста, построенных в Москве мастером И. Салтановым «со товарищи», как тогда писали в протоколах. Это были громадные, вырезанные в дереве фигуры Марса и Геракла. (Искусству скульптурного и живописного убранства триумфальных арок и пирамид петровского времени, т.е. вырезанным из дерева античным богам и богиням, задрапированным в холстиновые тоги, всем этим аллегориям мощи России и самого Петра, выраженным языком пластики и живописи, посвящена глава, рассказывающая об архитектуре петровского времени.) Приближенные царя также не отставали от обычаев украшательства в своем частном строительстве. Например, от убранства усадебной Воскресенской церкви генерал-губернатора Петербурга А. Д. Меншикова сохранились две деревянные барочные фигурки купидонов – мастерство древнерусских древоделей долго питало светское искусство Нового времени.
Закупки произведений скульптуры за границей. Венера Таврическая
Знакомство с европейской скульптурой осуществлялось и благодаря закупкам за границей произведений в основном позднего барокко, скульптур мастеров круга Бернини, а иногда даже и античных. Напомним, в Риме, о чем говорилось выше, была куплена знаменитая Венера, архетип которой восходит к Афродите Книдской Праксителя.
Известно, что Венера Таврическая, как она стала именоваться у нас впоследствии, была найдена в Риме во время земляных работ и куплена за 196 ефимков в 1718 г., как писал Ю. И. Кологривов, «с отшибленной головой и без рук». Поскольку скульптура стоила во много раз больше, римский губернатор Фальконьери наложил на нее арест, препятствуя вывозу, о чем Кологривов сообщает Петру в следующих выражениях: «…купил я статую мраморовую Венуса, старинная… Как могу, хоронюся от известного охотника [Фальконьери]. И скульптор, которому вверил починить [ее], не разнит ничем против Флоренской славной, но еще лутче тем, что сия целая, а Флоренская изломана…» В письме к кабинет-секретарю Петра А. В. Макарову Кологривов искренне восклицает: «И я лутче умру, нежели чем владеть им тою статуею» (цит. по: К биографии агента Петра I в Риме Ю. И Кологривова. 1719– 1727 гг. // Исторический архив. 2011. № 6. С. 183).
Венеру все-таки вывезли из Италии, правда, уже с помощью Саввы Рагузинского (серба на русской службе в качестве тайного агента в Константинополе). В 1716–1722 гг. в Венеции он вместе с П. И. Беклемишевым следил за посланными учиться «художествам» и делал заказы итальянским мастерам (по его словам, им было заказано более 80 мраморных статуй и более 110 бюстов). Однако эта почти юмористическая история с Венерой не должна вводить в заблуждение: «Попадание памятников античного искусства в Россию при Петре I, – пишет исследователь, – отнюдь не было спорадическим и случайным; оно было результатом планомерных постоянных забот преобразователя и его окружения. Именно при Петре было положено начало богатым отечественным коллекциям и тому новому культурному и художественному подъему, который впоследствии выразился наиболее полно в блистательном русском классицизме конца XVIII – начала XIX в.» (Неверов О. Я. Памятники античного искусства в России петровского времени // Культура и искусство петровского времени. Публикации и исследования. Л., 1977. С. 530).
Скульптура Летнего сада
С петровской эпохи начинается развитие всех направлений и жанров скульптуры: монументальной (как круглой, так и рельефной), садово-парковой, скульптурного портрета, медальерной пластики. Феофан Прокопович, известный златоуст, не случайно сравнивал Петра-реформатора со скульптором: «Россия вся есть статуя твоя, изрядным мастерством от тебя переделанная <…> мир же весьма есть стихотворец и проповедник славы твоея» (Феофан Прокопович. Слово на похвалу блаженные и вернодостойные памяти Петра Великого. 1726 // Панегирическая литература петровского времени / под ред. О. Державиной, А. Робинсон. М., 1979. С. 298).
Трудно удержаться и не вспомнить большой двойственности в понимании процесса внедрения круглой скульптуры в российскую жизнь самими иерархами церкви. Так, начало работы над иконостасом самого раннего петербургского памятника церковной архитектуры XVIII в. – Петропавловского собора – почти совпало с одним из первых указов недавно учрежденного Святейшего Правительствующего синода о запрещении «истесанных, издолбленных и изваянных икон», так как «дерзают истесывать их сами неотесанные невежды». Но в итоге на 20-метровую высоту взметнулась грандиозная триумфальная арка с пышной золоченой резьбой, хоть и увенчанная скульптурами Новозаветной Троицы, пророков, апостолов, Богоматери и Иисуса Христа, но более говорящая о победе светской власти над церковной. Знаменательно, что надзор за работой над иконостасом был поручен самому его творцу, руководителю работ И. П. Зарудному (подробнее об этом см.: Мозговая Е. Б. Скульптура в интерьерах православных храмов Санкт-Петербурга XVIII – первой половины XIX века // Петербургские чтения – 97. СПб., 1997. С. 456–458).
В самой амбивалентности такой ситуации присутствует очевидность того, что магистральный путь развития скульптуры петровского времени является светским, а не культовым, и начинается этот путь с закупок за границей. В светской скульптуре особое развитие в это время получает один определенный вид монументальной пластики – садово-парковая скульптура во всех ее разновидностях: статуи, барельефы, декоративные вазы (тоже в какой-то мере явление пластического искусства), исполненные из самых разных материалов – дерево, мрамор, свинец, медь и др. Примеры такой скульптуры мы находим в Летнем саду и Петергофском парке. Она была широко представлена в Стрельне, Ораниенбауме, Царском Селе.
Уже к 1710 г. в Летнем саду было свыше 30 больших статуй. Собрание их особенно обогатилось в 1714–1722 гг. (вспомним, что после перелома в ходе Северной войны начинается активное строительство в городе) лучшими произведениями итальянской скульптуры (П. Баратта «Мир и Победа», 1723–1725; Дж. Бонацца «Ночь», «Полдень», «Закат», 1716–1717; семья Гропелли «Нимфа воздуха», 1716–1717; работы А. Тарсиа и др.). Украшение Летнего сада не было хаотичным, а свершалось по определенной художественной и просветительской программе. Некоторые статуи и скульптурные группы заказывались специально, как, например, скульптура П. Баратта «Мир и Победа» в честь Пиштадтского мира (кстати, это единственная подлинная скульптура, оставшаяся после недавней реставрации начат 2010-х гг., недаром она поставлена перед дворцом; все остальные – высокопрофессиональные копии, сохранившие лишь подлинные постаменты). Для Летнего сада был куплен целый ряд работ О. Маринали – аллегории Иронии (Диоген), Смеха (Демокрит), Внимания (Гераклит), Страдания (Сенека), их атрибуции принадлежат С. О. Андросову (подробнее см.: Андросов С. О. Скульптура Летнего сада (проблемы и гипотезы) // Культура и искусство России XVIII века. Новые материалы и открытия / науч. ред. Б. В. Сапунов. Л., 1981. С. 44-58).
Покупались и антики, как уже известная нам Венера Таврическая. Но это все-таки исключительный случай, поскольку чаще делались заказы на копии со знаменитых античных статуй. Подражая Петру I, покупали скульптуру за границей и его сподвижники (А. Д. Меншиков, Ф. М. Апраксин и др.). Так или иначе, в подлинниках или копиях, по происходило знакомство русских людей с европейской круглой скульптурой. Иногда это вызывало настоящее изумление и почти детски-наивную радость. Скажем, Ю. И. Кологривов, образованнейший для своего времени человек, о купленной им скульптурной группе Амур и Психея, украшающей Летний сад, писал, что «в обоих в них влюбился», ибо «хорошо сделаны и можно за диковинку почесть» (цит. но: Каминская А. Г. Ю. И. Кологривов // Проблемы развития русского искусства. Вып. XII. Л., 1980. С. 15).
Скульптура Летнего сада представлена не только скульптурными группами и «грудными штуками» (т.е. бюстами) знаменитых философов, ученых, римских императоров и полководцев, но и чисто декоративной пластикой «водных затей» – фонтанов, гротов и т.п. Этим славился также Петергоф («Адам» и «Ева», Шахматная гора, Руинный каскад и др.). Уже в наши дни исследователями очень убедительно доказано, что не только в скульптуре Летнего сада, но и в рельефах Летнего дворца Петра I или Большого каскада в Петергофе была сознательно выражена и воплощена идея тематических циклов. Наибольшее предпочтение в петровское время отдавалось мифологическим образам, связанным с морем, прежде всего Нептуну, а за ним – сонму всяких морских чудищ (правда, одно из первых мест неизменно оставалось за Вакхом).
Европейские образцы и мастера (А. Шлютер, Н. Пино, К. Оснер)
Как и в живописи, в процессе обмирщения отечественной скульптуры многое сделали приглашенные Петром на работу иностранцы. Это и первые по времени рельефы Петровских ворот Петропавловской крепости («Низвержение Симона волхва апостолом Петром» и «Бог Саваоф»), исполненные Конрадом Оснером (1669–1747), и фигуры Афины на фронтоне (не сохранилась), а также Веры и Надежды (Беллоны и Минервы?) в нишах ворог, приписываемые Никола Пино (1684–1754). Вся скульптура Петровских ворот была исполнена до решающих «викторий» в Северной войне и отражала прежде всего веру и надежду русского народа на эту победу.
К. Оснер Старший. Низвержение Симона волхва апостолом Петром. 1707-1708
Имя Конрада Оснера еще связывают с работой над рельефом верхней церкви Богоявленского монастыря в Москве «Коронование Богоматери» (алебастр, 1704–1705(?); вероятно, с группой других иностранных мастеров). Но, возможно, этот рельеф – дело рук итальянских резчиков и квадраторов из артели И. Джемми, работавших годом ранее в церкви Знамения в усадьбе Дубровицы, а чуть позже украшавших лепниной перекрытие алтаря и исполнявших фигуры кариатид на хорах московской церкви Архангела Гавриила, более известной как Меншикова башня (алебастр, 1705–1707). Стилистически эти работы очень близки (подробнее см.: Рязанцев И. В. Скульптура в России. XVIII – начало XIX века. С. 334-337).
Что касается Никола Пино, то по его эскизам и моделям было также исполнено 14 вертикальных декоративных панно Дубового кабинета (проект Ж.-Б. Леблона) Большого Петергофского дворца (1718–1720), аллегории и символы которых раскрывают и прославляют военную и государственную деятельность Петра I. Кроме того, по моделям Пино были созданы рельефы дубовой отделки западной галереи дворца Монплезир (1720–1722).
Г. И. Маттарнови (или какому-либо другому мастеру школы А. Шлютера) приписываются медальоны потолка (стук, алебастр)
Передней Меншиковского дворца – «Правосудие» (Фемида с весами) и «Плодородие» (Деметра с корзиной и снопами).
Наконец, одно из значительных явлений в этом ряду – 29 сюжетных барельефов по эскизам Андреаса Шлютера, исполненных (частично, возможно, им самим, а частично – его учениками) на фасадах Летнего дворца в Летнем саду (1713–1714), аллегорически прославляющих военно-морские победы России, ее утверждение на берегах Невы и Балтики, и изображение Минервы в окружении военных атрибутов над входом южного фасада.
Даже единичные элементы общего убранства оставляли след в развитии светской скульптуры, ее становлении: например, рельеф камина с амурами в Зеленом кабинете Летнего дворца, семь медальонов во дворце Меншикова (все – мастерской А. Шлютера), рельефы «Игры амуров» в Монплезире; аллегории музыки и искусств на фризе Центрального зала Большого Петергофского дворца; наконец, более семи десятков рельефов Большого каскада Петергофа (отлитые в свинце в 1720–1721 гг. в Англии по чертежам И. Ф. Браунштейна и Ж.-Б. Леблона). Затем к этому добавились закупки Н. Микетти в Италии.
Все перечисленное вместе представляло собой определенный этап в изучении общеевропейских приемов пластического искусства. Однако это были в основном произведения, непосредственно связанные с архитектурой, убранством ее экстерьера или интерьера, так сказать, архитектурно-декоративная пластика, чисто декоративная скульптура. Но уже с начала 1720-х гг. встает вопрос о создании больших скульптурных памятников – Триумфального столпа и конного монумента Петра I. Никола Пино создает проект памятника Петру в образе Геркулеса, поражающего льва (символ Швеции). Фигура Петра должна была венчать триумфальную арку (рисунок Пино хранится в Музее декоративных искусств в Париже). В виде триумфальной арки был решен и маяк в Кронштадте. Минерва и соседствующие с ней Нептун, дельфины и прочие морские существа, представленные как в круглой скульптуре, так и в рельефе, призваны были прославить морские победы России. Об этом неосуществленном проекте мы можем судить по чертежам Н. Пино и Н. Микетти (ГЭ).
Незавершенным остался и Триумфальный столп, который предполагалось установить на одной из площадей Васильевского острова. В его создании принимали участие Б. К. Растрелли, Н. Пино, Л. Каравак, а осуществлялись работы в токарной мастерской А. К. Нартова. Бронзовые и медные рельефы, предназначавшиеся для этого столпа, до сих пор находятся в собрании Эрмитажа (ОИРК). Медальоны («Основание Петербурга», «Сражение при Калише», Полтавский бой, аллегория Пиштадтского мира и др.), повествующие о событиях Северной войны, почти скрупулезно точно, как бы продолжая традицию рельефов колонны Траяна, передают реалии военного быта, костюм, вооружение. Сцены битв при Нотебурге, Нарве и Калише приписываются Н. Пино. Лучший из медальонов, посвященный основанию Петербурга, безоговорочно считается исполненным Б. К. Растрелли. Вопрос авторства в отношении всех сохранившихся медальонов вообще является спорным, поскольку они не подписные, а рисунки к ним не обнаружены. Но два имени – Пино и Растрелли – бесспорны.
Б. К. Растрелли и становление жанров круглой скульптуры в России. Бюст, статуя, скульптурная группа, конный монумент
С именем Бартоломео Карло Растрелли (1675–1744), Растрелли-отца, или Растрелли Старшего, как по-разному называют его историки искусства, связано истинное рождение на русской почве светской круглой скульптуры: монументальной и монументально-декоративной, конного монумента, скульптурной группы, бюста – в этом смысле его роль напоминает роль Донателло в пластике флорентийского кватроченто.
Флорентинец по происхождению, работавший в Риме и Париже, воспитанный в традициях берниниевского барокко, Растрелли приехал в Россию вместе со своим сыном в 1716 г. и обрел здесь свою вторую родину. Договор с ним включал выполнение самых разнообразных заказов. Он работал и как архитектор, и как скульптор в разных жанрах – от «кумироделия всяких фигур» до строительства «бросовых вод… которые вверх прыскают», т.е. фонтанов, и создания театральных декораций. Но как архитектор Б. К. Растрелли был оттеснен Ж.-Б. Леблоном, когда уступил ему в конкурсе на строительство дворца в Стрельне.
Первая скульптурная работа Растрелли в России – бюст А. Д. Меншикова (1716–1717, бронза, ГЭ; вариант в мраморе скульптора Витали – 1848, ГРМ), внешне эффектный, несколько театральный, величественный образ «прегордого Голиафа», «герцога Ижорской земли», «полудержавного властелина», про которого чуть ли не сам Петр остроумно сказал при случае: «Он в беззакониях зачат, во грехах родился и в плутовстве скончает живот свой». В книге «Описание Санкт-Петербурга и Кроншлота в 1710–1711 годах», первоначально изданной в Лейпциге (1713), Меншикову дана такая характеристика: «Он высок ростом и статен и поистине может хвалиться редким и необыкновенным счастием, достигнув княжеского сана из самой низкой доли <…> Меншиков вполне владеет сердцем царя, после которого является первым лицом России» (PC. 1882. Т. 34. С. 294).
На портрете, исполненном в типично барочных формах, с винтообразным разворотом торса (линия плеч противоположна повороту несколько приподнятой головы), Меншиков выглядит надменным, энергичным, волевым. С характерной для барокко внимательностью к разности фактур скульптор передает доспех с изображенными на нем рельефными батальными сценами, развевающуюся мантию, звезды и ленты орденов: Андрея Первозванного, польского Белого Орла и прусского Черного.
Главным делом, для которого Растрелли, собственно, и был приглашен в Россию, являлось создание памятника Петру I. Из дневника камер-юнкера Берхгольца мы узнаем, что Растрелли было велено исполнить даже два изображения императора – на коне и пешего. О последнем мы знаем лишь, что скульптура была готова к отливке, но какова ее дальнейшая судьба, неизвестно (о ней вспоминали и Елизавета, и Екатерина II, но так и не «опробовали»), В результате к 1720 г. скульптором были представлены эскизы и модели копного монумента с множеством аллегорических фигур – решение, от которого он позже категорически отказался. В РГАДА сохранился рисунок, по которому можно судить об этом первоначальном замысле. Петр предстает на высоком постаменте, окруженный поверженными врагами; его венчает фигура Славы – здесь усматривается явное влияние копного памятника Фридриху Вильгельму в Берлине работы А. Шлютера.
Естественно, что в процессе работы над монументом родился бюст Петра (1723, расчистка до 1729–1730, бронза, ГЭ; повтор в чугуне – 1810, ГРМ; известен также бюст из Копенгагена, подаренный Петром датскому королю в 1721). Как и изображение Меншикова, бюст императора представляет собой типичное произведение стиля барокко. Это динамическая композиция с подчеркнутой пространственностью, с тем же винтообразным разворотом торса, со светотеневыми контрастами пластических масс, с их живописностью и непременным акцентом на множественности фактур – мягких развевающихся волос (не парика!), кружев жабо, металла лат (на которых изображены аллегория создания России и Полтавская баталия), муара ленты Андрея Первозванного. Все это полно напряженного динамизма, все подчеркивает неукротимую энергию, несгибаемую волю необыкновенного человека. Это скорее образ целой эпохи (что так любило барокко), чем конкретного индивида. Обобщенность придает бюсту черты монументальности, но вместе с тем в нем присутствует и подлинная историческая правда. Для Растрелли (так до конца жизни, видимо, и не выучившего хорошо русский язык) свойственно удивительное чувство историзма, что еще не раз скажется в его работах.
Б. К. Растрелли. Петр I. 1723-1730, ГЭ
До нас дошло несколько словесных портретов Петра I. Вот один из них, принадлежащий перу герцога Луи де Сен-Симона: «Царь был очень высокого роста, очень строен, довольно худощав, лицо круглое, большой лоб, красивые ресницы, небольшой нос, толстый на конце, довольно крупные губы, красноватый и темный цвет лица, прекрасные черные глаза, большие, живые и проницательные, красиво сидящие, взгляд величавый и милостивый, когда было угодно царю, иногда же суровый и дикий <…> В нем соединялось поразительное, истинно царское величие, необыкновенно деликатное, сдержанное, в высшей степени обходительно вежливое <…> [царь] поражал своей необыкновенной любознательностью, и она неизменно была направлена на вопросы правления, торговли, просвещения и администрации» (Сен-Симон Л. де. О пребывании Петра Великого в Париже в 1717 году. Из записок герцога де Сен-Симона // Мир Божий. 1899. № 12. С. 115).
На портрете Растрелли в чертах лица Петра, переданных, несомненно, похожими на живую модель, есть нечто вдохновенное, по и трагическое, как бы предугаданное чутьем большого художника. Не случайно вспоминаются бессмертные строки А. С. Пушкина: «Лик его ужасен. / Движенья быстры. Он прекрасен. / Он весь, как Божия гроза». Или: «Могущ и радостен, как бой». Глядя на эту откинутую голову, кажется, что мы слышим знаменитые слова царя, произнесенные им перед Полтавской битвой: «Вы сражаетесь не за Петра, а за государство, Петру врученное <…> а о Петре ведайте, что ему жизнь не дорога, только бы жила Россия, честь, слава и благосостояние ее!» Художественная оценка Петра как исторической личности позволила Растрелли создать образ подлинного героизма и величия, большой внутренней силы.
Бюсту предшествовала, как всегда у Растрелли, большая работа с натуры. По сути, именно Растрелли познакомил русских людей с широко известным в Европе видом ваяния – скульптурой из воска. В 1719 г. он с делал гипсовый слепок с восковой маски, снятой с живого Петра, поэтому благодаря скульптору мы имеем иконографически точное свидетельство того, как выглядел Петр. Гипсовая маска была использована после смерти императора в работе над так называемой восковой персоной. Перед работой над бронзовым бюстом Растрелли исполнил восковой бюст царя в латах.
После смерти Петра Растрелли, как и Иван Никитин, оказывается некоторое время не у дел. Вспыльчивый, нетерпимый к несправедливости, мастер легко наживал врагов. Канцелярия аттестовала его как капризного, несговорчивого и ставила в вину даже требование им долга из государственной казны, причитающегося ему по праву за 11 лет службы. Она предлагала Сенату дать Растрелли отставку «и чтоб не имел впредь в России продолжать жить».
Именно в этот период мастер исполняет еще один бюст – неизвестного, атрибутируемый некоторыми исследователями как автопортрет (1732, ГТГ), в пользу чего говорит отсутствие каких-либо знаков власти и социального положения, соответствие возрасту самого скульптора и необыкновенно отчетливо и размашисто процарапанные дата и подпись, а также изображение герба графского достоинства на постаменте. Однако изыскания, обнаружившие в Рундальском дворце (который строил сын скульптора) герб Растрелли, отвергают версию автопортрета: герб совсем не такой, как на ножке бюста. Не без основания всплывает имя графа Саввы Рагузинского, одного из сподвижников Петра, дипломата, сумевшего в правление Анны Иоанновны благодаря своему государственному уму остаться в стороне от всех дворцовых смут и козней (вернее сказать, «и казней») и много помогавшего художникам (в его доме в Петербурге жили и Б. Тарсиа, и Н. Пино, и Л. Каравак). Возможно, именно покровительство Рагузинского позволило Растрелли уехать, как он хотел, в Москву, а его сыну помогло стать придворным обер-архитсктором. Возможно также, что и бюст был заказан Рагузинским для упрочения положения скульптора, подобно тому, как заказал свой живописный портрет Сергей Строганов Ивану Никитину в близких обстоятельствах. Таким образом, «бюст неизвестного» в некотором смысле явился поворотным пунктом в творческой карьере мастера (подробнее см.: Вяткин Л. М. О «портрете неизвестного» работы Б. К. Растрелли // Страницы истории западноевропейской скульптуры: сб. науч. ст. памяти Ж. А. Мацулевич (1890-1973). СПб., 1993. С. 215-221).
Кто бы ни был этот неизвестный, бюст поражает тонкостью и глубиной в передаче психологического состояния внутреннего раздумья, душевного напряжения и духовной возвышенности. Подобные произведения по праву могут считаться блестящим началом развития русского скульптурного портрета.
Последующие работы Растрелли связаны уже со временем царствования Анны Иоанновны, по мы скажем о них здесь, чтобы возможно полнее представить значение его фигуры для пластики XVIII в. в целом. В частности, Растрелли принадлежит первое решение монумента в виде скульптурной группы. Это бронзовая статуя Анны Иоанновны с арапчонком, один из ярчайших памятников по цельности (и исторической верности) художественного образа и пластической выразительности (1732–1741, из них 1732– 1739 – общее решение модели, выполнение бюста Прасковьи Федоровны – матери императрицы, на которую она была очень похожа; подготовка к литью, устройство печи; затем 1739–1741 – отливка в бронзе и чеканка). Введение в композицию фигуры арапчонка, столь характерного персонажа для придворного быта XVIII в., необходимой скульптору для пластического равновесия масс, соединило парадный и жанровый мотивы, усилило впечатление от «каменноподобной» фигуры императрицы, в образе которой словно слились воедино азиатский деспотизм и изощренная роскошь западноевропейского придворного антуража. Растрелли продемонстрировал здесь не только безупречное владение языком монументальной скульптуры, мастерство обобщения при сохранении острой индивидуальной характеристики, но и глубокое проникновение в мир русской жизни, в удивительные контрасты русского XVIII в., создав символ эпохи. Так, Наталья Борисовна Шереметева в «Своеручных записках…» писала об Анне Иоанновне: «…престрашная была взору, отвратное лицо имела, так была велика, [что] когда между кавалеров идет, всех головою выше, и чрезвычайно толста» (цит. по: Безвременье и временщики. Воспоминания об «эпохе дворцовых переворотов» (1720–1760-е годы). Л., 1991. С. 263).
С восшествием на престол дочери Петра Растрелли исполняет два парных барельефа – Елизаветы и Петра, подписные («conte do Rastrelli») и датированные 1741–1743 гг. (бронза, литье, чеканка, гравировка, золочение). На Елизавете малая корона в обрамлении дубовых и лавровых листьев, орден Андрея Первозванного и медальон с портретом Петра I.
Последние четыре года жизни Растрелли – это «взлет гения», как справедливо отмечали исследователи его творчества (см.: Архипов Н. И., Раскин А. Г . Бартоломео Карло Растрелли. Л.; М., 1964). За период 1741–1744 гг. при новом царствовании «дщери Петровой» Елизаветы, на которую смотрели с надеждой как на продолжательницу дел своего великого отца, он создаст конный монумент императора, найдя в свои 68 лет творческие силы совершенно изменить первое, 1720-х гг., барочное решение. Растрелли создает образ полководца, триумфатора, в традициях, начало которых лежит еще в римском памятнике Марку Аврелию, а находит продолжение в донателловском Гаттамелате (Падуя) и кондотьере Коллеони ученика Донателло Верроккьо (Венеция). А. Шлютер в начале XVIII в. прославился конным памятником «Великому курфюрсту» Фридриху Вильгельму в Берлине (1696–1703). Несомненно, замысел конной статуи Петра вызревал еще до приезда Растрелли в Россию. Царь мог обсуждать его и с самим А. Шлютером, и с Ж.-Б. Леблоном, который наметил на своем генеральном плане города (1717) постановку конного монумента на плацу Васильевского острова.
Б. К. Растрелли. Петр I. 1716–1720 (отлив 1741 – 1744) Пьедестал – арх. Ф. Волков и ск. М. Козловский. Памятник установлен в 1800 г.
Свободную постановку фигуры, четкость и строгость силуэта, органическую слитность пластических масс с пространством, лаконизм, законченность и определенность всех форм видим мы в памятнике вместо барочной сложности движения. Мужественный, простой и ясный пластический язык, которым Растрелли прославляет – убедительно и искренне – силу и могущество русской государственной власти, несомненно, продолжает традиции антично-ренессансных пространственных представлений. Именно в них сумел скульптор создать исполинский образ, олицетворяющий как торжествующую и победоносную Россию, так и образ героя, совершившего исторический и национальный подвиг ее преобразования.
Судьба памятника более чем драматична. Растрелли успел при жизни исполнить только модель в натуральную величину. Отливку производил его сын, к тому времени известнейший архитектор. После смерти Елизаветы Петровны прекратилась расчистка памятника (Ф. Б. Растрелли предполагал установить его на круглой площади перед строящимся Зимним дворцом), а потом о нем вообще забыли (как подсчитано, «всадник» кочевал по девяти сараям, включая и сарай у Таврического дворца, так как
Екатерина подарила не нравившийся и не нужный ей памятник Потемкину). Лишь при Павле I растреллиевский монумент был водружен у Михайловского (Инженерного) замка, где находится и по сей день, став неотъемлемой частью ансамбля, для которого вовсе и не предназначался. Ведь сначала у Павла была небезынтересная мысль отправить памятник в Кронштадт, на любимый Петром остров. Но когда А. В. Суворов после блистательного похода неожиданно оказался в опале, место его прижизненной статуи, ранее предполагаемое у Михайловского замка, освободилось для монумента работы Б. К. Растрелли.
Пластика малых форм. Медали, монеты
Для полноты картины развития светской скульптуры в петровское время необходимо упомяпуть о мелкой пластике (так называемой пластике малых форм), в которой, однако, решались большие задачи, – о медальерном искусстве. Как и в графике петровской поры, в медалях запечатлевались важнейшие исторические события и люди, а надписи на русском языке делали изображаемое вполне понятным. Медали были разных типов: памятные – в честь побед в Северной войне, Ништадтского мира, основания Петербурга и т.д.; наградные, например за участие в той же войне, и персональные (например, Я. Ф. Долгорукову, 1708). Печатание с чеканных штемпелей, которые, в свою очередь, исполнялись с восковой модели, давало большой тираж.
Петр и его окружение (А. Д. Меншиков, Я. В. Брюс, Ф. М. Апраксин и др.) были и здесь первыми коллекционерами-нумизматами. Иногда текст на медали заимствовался из речи царя или эпистолярии. Так, на медали в честь взятия двух шведских судов в устье Невы 5 мая 1703 г. помещена цитата из письма Петра Ф. М. Апраксину: «Небываемое бывает». Уже после смерти Петра, в царствование Екатерины I, медали продолжали посылать к европейским дворам и преподносить разным официальным лицам (например, медаль в память и на смерть императора). Современными исследованиями (Е. С. Щукина) атрибутированы две анонимные литые медали с портретом Екатерины I как произведения Б. К. Растрелли.
Центром производства медалей в Москве были Денежный двор и Оружейная палата; с 1711 – 1712 гг. в Петербурге их стали производить Адмиралтейский двор, а затем Петербургский монетный. Дабы не возвращаться к этому вопросу, укажем, что с 1760-х гг. единственным в России местом изготовления медалей становится Медальерная палата Петербургского монетного двора – своеобразная школа, где обучались профессиональным навыкам целые династии. Медальерные дисциплины преподавались и в Академии художеств.
В елизаветинское время было немало поводов для памятных медалей. Так, на медали в память основания Московского университета (С.-Петербургский монетный двор; медальер Я. Я. Рейгель; медь, чеканка) императрица традиционно для медальерного искусства изображена по грудь, в профиль. На оборотной стороне – Аллегория России в окружении атрибутов наук, искусств и ремесел. На фоне в очень низком рельефе – панорама Московского Кремля. Наградные медали Московского университета, как правило, исполнялись уже во второй половине века, в екатерининское время. Несколько таких медалей, дошедших до нас, исполнены мастером Ю. Юдиным на Петербургском монетном дворе (серебро, чеканка) и изображают Минерву со щитом и в окружении атрибутов искусств. Крупными буквами латиницы выделена посвятительная надпись Елизавете. Сохранилась и медаль на кончину петровой дочери медальера Б. Скотта (1762, Петербургский монетный двор; серебро, чеканка). В этой медали интересно даже не столько традиционное изображение императрицы в профиль, в короне и с Андреевской лентой, сколько изображение на оборотной стороне Елизаветы, возносящейся в звездном ореоле, со скипетром, падающим из ее рук на монумент с гербом наследника Петра Федоровича: все истолковано просто и ясно.
Портрет императрицы Елизаветы Петровны. Портрет императора Петра I. 1741-1743, ГЭ
Во второй половине столетия медальерное дело развивалось по тем же трем линиям, что и в петровское время: медаль памятная, наградная и персональная. Отметим попутно, что в просветительскую екатерининскую эпоху нередки были медали в честь ученых, работавших еще при Анне и Елизавете, например в честь Леонарда Эйлера, математика, физика, теоретика музыки, с 1731 г. академика Петербургской Академии наук.
Так в разных видах и жанрах утверждалась и крепла светская скульптура первой половины XVIII в.
Графика петровского времени
Традиции резцовой графики на меди XVII века. Роль прикладной графики в петровское время: от учебников и глобусов до «книги Марсовой»
Общеизвестны слова из Проекта положения об учреждении Академии наук и художеств, утвержденного Петром I в январе 1724 г.: «Без живописца и градыровального мастера обойтися невозможно будет, понеже издания, которые в науках чиниться будут (ежели оные сохранять и публиковать), имеют срисованы и градырованы быть» (цит. по: Курмачева М. Д. Петербургская Академия наук и М. В. Ломоносов. М ., 1975. С. 75).
Гравюра как самый оперативный, мобильный вид искусства быстро откликалась на все события времени и в бурную петровскую пору пользовалась особым успехом. В этом виде искусства наиболее непосредственно, ярко и наглядно предстали изменения во всех сферах русской жизни, отразив конкретные события многотрудной, но и победно-ликующей эпохи Петра. По технике это прежде всего резцовая гравюра – старая русская традиция, восходящая к мастерским Оружейной палаты (уровень мастерства гравюры на меди резцом русских и украинских граверов, работавших в XVII в. в Москве, был очень высок), и более новая техника, такая как офорт, чаще – офорт и резец.
Оформление рукописных книг, гравированные «тезисы» и иконы, иконописные прориси и прописи; репродукционная гравюра Симона Ушакова, «коиклюзии» – афиши с жизнеописанием перед каким-либо диспутом, какие были приняты в Славяно-греко-латинской академии; иллюстрации «Избрания Михаила Федоровича на царство» с первыми изображениями пейзажа, портрета, архитектуры; светская по сюжету народная картинка, напечатанная с деревянных досок и разрисованная от руки; альбомы, подобные знаменитой «Книге Виниуса» 1674 г. – собранию оригинальных голландских и фламандских рисунков и гравюр XVI–XVII вв., привезенных из дипломатической поездки дьяком Посольского приказа Андреем Андреевичем Виниусом; акварельные портреты «Титулярника» 1672–1678 гг., исполненные мастерами Оружейной палаты; эстампы знаменитого «Букваря» Кариона Истомина 1692–1694 гг., вышедшего из-под руки резчика Серебряной палаты Леонтия Бунина (гравюра на меди, резец); лицевые изображения «Книги Бытия» и «Апокалипсиса» ксилографии Василия Кореня 1690-х годов и т.д., – все это и многое другое подготовило новые жанры графики первой трети XVIII в. и ее расцвет.
Графика всегда, а в петровское время особенно, имела большое практическое значение. Без гравера не могли быть исполнены учебники, атласы, глобусы, календари, пособия, руководства и другие светские издания из разных областей знания, планы городов и т.п. Так, в московской Гражданской типографии Василия Киприанова, человека разнообразнейших знаний, математика, издателя, картографа, была напечатана «Арифметика» Л. Ф. Магницкого с гравюрами на меди М. Карновского, в частности аллегорическое изображение Арифметики с двуглавым орлом на фронтисписе. По этому учебнику учился еще М. В. Ломоносов. В календарях того времени среди сведений политического характера, медицинских советов, предсказаний погоды, гороскопов было немало гравюр, поясняющих текст. Первый лист знаменитого Большого Брюсова календаря, состоящего из шести листов, был награвирован Василием Киприановым и его учеником Алексеем Ростовцевым в духе «тезисов». Алексей Ростовцев принимал участие и в создании первого в России глобуса.
Петровское время – период интенсивного сложения первых значительных библиотек не только царских особ и высших кругов знаги (известно собрание книг сестры Петра, Натальи Алексеевны, положившее основание первой в России государственной публичной библиотеки, которая вошла в библиотеку Академии наук; собрание Я. В. Брюса, А. А. Матвеева), но и более простых по положению людей: переводчика А. А. Виниуса, руководителя Московской типографии Ф. М. Поликарпова и др.
Книжной иллюстрации в современном понимании этого слова в петровское время еще не было, так как вряд ли можно назвать иллюстрациями собранные в знаменитой «Книге Марсовой», посвященной сражениям «Свейской войны», многочисленные гравюры с изображениями осады и штурма Нотебурга и Ниеншанца (1703), Юрьева и Нарвы, крепости Санкт-Петербург (1704), триумфов, карт завоеванных земель, планов городов и т.п. В то же время на Московском печатном дворе исполнялось огромное количество таблиц-иллюстраций из переводных книг, в основном на военную тему.
Замысел «Книги Марсовой» принадлежал руководителю Санкт-Петербургской типографии М. Аврамову, а основным исполнителем был Алексей Зубов. Первый вариант «Книги» (альбом формата 25 х 30 см) был награвирован в конце 1712 – начале 1713 г.: виньетка титульного листа «Вид Петербурга», на фронтисписе – портрет Петра I («тип Яна Купецкого») в окружении Марса, Нептуна, Геракла и других фигур, сюда же попали и персонажи из Священного Писания. Исследователи в этом «сочетании христианского и античного» видят признак барочной культуры, проявляющийся не только в искусстве, но и в миросозерцании человека: «Античные и христианские герои общаются между собой, что характерно для западноевропейского барокко» (Алексеева М. А. Гравюра петровского времени. Л., 1990. С. 126, 188). По сути, 16 таблиц первого варианта «Книги Марсовой» – это приведенные в один размер гравюры, исполненные А. Шхонебеком, А. Ф. Зубовым и другими мастерами, посвященные взятию различных городов, карты, планы сражений. По окончании первого варианта сразу же стал подготавливаться второй. «Книга Марсова», издававшаяся три раза, – поистине уникальный памятник эпохи.
Московская школа: гравировальная мастерская при Оружейной палате. А. Шхонебек и П . Пикарт. Братья Зубовы
Триумфальность пронизывает все искусство петровской эпохи: архитектуру с ее декором, парковые ансамбли, парадные портреты Петра и сто «птенцов», но особенно гравюру с ее изображением «викторий», торжественных шествий, парадов, триумфальных арок, иллюминаций, свадебных пиров, многочисленных «видов» повой столицы. Именно эта, как правило большая по размерам, станковая гравюра, эстамп, отображающая все главные события времени – морские и сухопутные баталии, редуты «новозавоеванных» городов и строящегося Петербурга, триумфы и «огненные потехи», триумфальные арки и другие различные сооружения в честь побед, коронаций, тезоименитств, а также отдельные архитектурные памятники в разные этапы их создания, является богатейшим историческим материалом. Представляя огромную эстетическую ценность, она вызывает интерес исследователей и как произведение искусства.
Портрет в этом разнообразии жанров занимает более скромное место, ибо в отличие от тематической и видовой гравюры является репродукционным (как и эмалевый), т.е. исполненным с какого-нибудь, образца, оригинала, обычно живописного. Портретное изображение часто входит в общие тематические композиции (скажем, «Осада Азова» А. Шхонебека), в титульные листы и фронтисписы некоторых изданий, например «Книги Марсовой», о которой уже шла речь. Отметим, что появляется и портрет как таковой, но тоже исполненный с какого-нибудь образца (портрет Екатерины I с арапчонком Алексея Зубова с оригинала И. Адольского, 1726; портрет Петра I Степана Коровина (резцовая гравюра) по рисунку Л. Каравака (1723) или Петра II с живописного оригинала того же Каравака, 1727)
Процесс обмирщения в графике петровского времени шел, возможно, несколько быстрее, чем в других видах искусства, в силу ее мобильности и больших достижений в этой области еще на рубеже столетий, но в целом теми же путями. Петр приглашал иностранных графиков. В частности, в 1698 г. в Москве была создана гравировальная мастерская при Оружейной палате под руководством только что приехавшего из Голландии Адриана Шхонебека (1661 – 1705; в дореволюционной литературе иногда именуется Схопебеком). В числе его учеников были братья Алексей и Иван Зубовы. Первый офорт Шхонебека в России – «Осада Азова», динамичный и свободный, был исполнен в 1699 г. и подписан так: «Адриан Шхонебек, книгохранитель и первый в меди изограф на Москве». Его же изображение корабля «Гото Предестинация» (1700–1701), по сути, представляет собой фиксационный чертеж, превращенный в художественное произведение. Гравюры Шхонебека с изображением осады Нотебурга, Ниеншанца, Юрьева, Нарвы, Санкт-Петербурга вошли в «Книгу Марсову». Шхонебеку принадлежат также четыре листа гравюр «Карты Ижорской земли», карты Ингерманландии (1700), устья Северной Двины (1701), портреты Петра I (1703–1705), графа Б. П. Шереметева (1702).
Со Шхонебеком работал его пасынок Питер Пикарт (или Пикар, как его звали на французский манер; 1668–1737, в России с 1703).
Пикарт возглавлял Походную гравировальную мастерскую, после смерти отчима руководил гравировальной мастерской Оружейной палаты, затем (с 1708) работал на Московском Печатном дворе. Ранние работы Пикарта – изображение шнявы «Астрильд» (1703), «Вид Петербурга» (1704), тема, к которой будут обращаться многие граверы; портрет А. Д. Меншикова на коне (1707). Вместе с русскими учениками Пикарт исполнял «Вид Москвы от Каменного моста» – один из первых больших эстампов в жанре ведуты (1707–1708). Предтечей его явилась «Усадьба графа Ф. А. Головина в Москве» (1707–1708), которую Пикарту пришлось закончить после смерти Шхонебека. Из сто же мастерской при Оружейной палате вышли виды монастырей – Новодевичьего, Данилова, Симонова (1708). В 1711 г. из Оружейной палаты в Петербург переводится группа граверов во главе с Алексеем Зубовым, туда же переезжает и Пикарт. С 1714 г. Пикарт и Зубов – главные художники Санкт-Петербургской типографии.
Место Пикарта в Московской Оружейной палате занял голландец Ян Ван Бликландт, которому принадлежит известный эстамп «Панорама Москвы с Воробьевых гор» (резец, офорт). К огромному листу основной композиции приклеены восемь отдельных маленьких листов с изображением подмосковных монастырей – прием, позже использованный в «Панораме Петербурга» Алексея Зубова.
Алексей Зубов – глава петербургской школы графики. Многообразие жанров, отражение триумфальности и победительности петровского времени. А. Зубов и П. Пикарт в Петербурге
Как и в других видах искусства, начало XVIII в. ознаменовано победой светской гравюры, в которой основными авторами были уже русские мастера. Именно они определили истинное лицо графики первой трети столетия. Прежде всего это Алексей и Иван Зубовы, сыновья живописца Оружейной палаты Федора Зубова, и Алексей Ростовцев, воспитанные на фундаментальных традициях резцовой гравюры на меди. Усвоив от А. Шхонебека ряд новых технических приемов, они полностью сохранили национальный характер русской гравюры.
Так, в ведутах и баталиях Алексея Федоровича Зубова (1682–1751), как, впрочем, и у его брата, преобладает лаконичный штриховой рисунок, большую роль играет оттенок самой белой бумаги; композиция проста, логична, ясна. Но к этому мастер пришел не сразу. Ранние работы Алексея Зубова, такие как «Вид дома М. П. Гагарина в Москве» (1707), еще очень близки московской традиции Оружейной палаты. Однако выпущенный Санкт-Петербургской типографией 11 мая 1711 г. первый номер «Санкт-Петербургских ведомостей» с виньеткой Зубова, изображающей летящего над городом Меркурия, стал своего рода маркой типографии и ознаменовал первый значительный успех в новой столице московского гравера, в итоге ставшего главой петербургской школы гравирования.
Алексей Зубов и Питер Пикарт часто исполняли гравюры на один и тот же сюжет, например «Торжественное вступление русских войск в Москву после Полтавской победы 21 декабря 1709 года» А. Зубова (первый вариант – 1710, второй – 1711) и «Вошествие в Москву после Полтавской победы» (1714) П. Пикарта. В 1715 г. они вместе создали «Баталию Полтавскую».
Самая масштабная работа Алексея Зубова – «Панорама Петербурга» (1716) исполнена на четырех больших досках и изображает длинный ряд домов на набережной, взятых преимущественно с фасада, а на переднем плане – большие и малые корабли на Неве. В одной из лодок видны даже Петр и Екатерина.
А. Ф. Зубов. Панорама Петербурга. 1716. Фрагмент
Как и в «Панораме Москвы с Воробьевых гор» Я. Бликландта, основной «вид» сопровождают 11 «малых видов», относительно авторства которых в науке до сих пор нет достаточной ясности. Наиболее убедительным представляется, что Алексей Зубов исполнил «Летний дворец», «Александро-Невскую лавру», возможно, «Катерин Гоф» и «Адмиралтейство». Основная же часть «малых видов» исполнена Алексеем Ростовцевым: «Ораниенбаум», «Котлин остров», «Кроншлот», «Дом светлейшего князя Меншикова», «Гостин двор», «Питер Гоф».
«Панорама Санкт-Петербурга» А. Зубова (1716)
Гравюре Алексея Зубова «Панорама Петербурга» посвящено подробное исследование Г. Н. Комеловой (см.: Комелова Г. Н. «Панорама Петербурга» – гравюра работы А. Ф. Зубова // Культура и искусство петровского времени. Публикации и исследования: сб. / под ред. Г. Н. Комеловой. Л., 1977. С. 111 – 143).
В статье тщательнейшим образом проанализирована архитектура, изображенная на гравюре: ведь споры исследователей велись не только об отдельных памятниках, но и относительно целых районов. Г. Н. Комелова доказывает, что в левой части «Панорамы» изображена Литейная – в те годы наиболее аристократическая – часть города. Автор статьи идентифицирует с другими известными изображениями дом А. П. Голицыной (первый слева на гравюре), который ранее считался домом канцлера Шафирова; дворец сестры царя Натальи Алексеевны, царевича Алексея Петровича; усадьбу вдовы брата царя Федора, Марфы Матвеевны, и дворец вдовы второго брата, Иоанна, Прасковьи Федоровны. В центре – легко узнаваемые Меншиковский дворец и еще не оконченная Петропавловская крепость. Справа – Петербургская сторона: здание Сената, дома М. П. Гагарина, П. П. Шафирова, II. М. Зотова, И. И . Ржевского и Г. М. Головина. От реального облика здания Зубов отходит только в случае, когда оно к моменту создания гравюры не было закончено.
Сохранилось всего четыре экземпляра знаменитого произведения: в Эрмитажном собрании, Российской научной библиотеке, Летнем дворце в Летнем саду и в Архиве древних актов в Москве. Это всегда казалось удивительным, потому что известен успех гравюры, которую сразу после выхода охотно раскупали в книжной лавке типографии в Гостином дворе, хотя по тем временам она стоила немало – 3 рубля. Но вскоре это произведение было предано забвению, как утверждают отдельные исследователи, потому что Зубов включил в изображение некоторые еще не оконченные строительством дома. Однако Г. Н. Комелова вполне убедительно доказывает, что причина другая: город очень быстро рос, непредсказуемо менялся, в связи с чем совсем скоро уже не соответствовал тому облику, который воспроизвел мастер. «Панорама…», не успев появиться, устарела и перестала отвечать своему назначению – быть «похвалительным», торжественным описанием Петербурга.
Литейная часть потеряла значение одного из главных районов города. Ее деревянные, далеко не торжественные и не нарядные дома как-то быстро устарели, а их владельцы (по той или иной причине) умерли. Летний сад со своим замечательным дворцом неимоверно разросся. На набережной вознеслись палаты Кантемира, дом Мусина-Пушкина, Зимний дворец самого Петра работы
Г. И. Маттарнови, дом Апраксина, возведенный по проекту любимого архитектора Петра Ж.-Б. Леблона, затмивший, по словам камер-юнкера Бергхольца, славу Меншиковского дворца. Доски Зубова были, говоря современным языком, сданы в архив. Перед глазами жителей 1718–1720 гг. и самого Петра, незадолго до того возвратившегося из-за границы, представал уже совсем другой Петербург – город-порт, но и город-столица, более нарядный и грандиозный, чем он выглядел на «Панораме…» 1716 г.
Алексей Зубов как большой художник чувствовал это и после смерти императора, в 1727 г., исполнил последний в своей жизни «Вид Петербурга», отличающийся от его более ранней работы. В гравюре, предназначенной для нового издания «Книги Марсовой», пространство четко разделено на три плана, из которых дальний план изображает Петропавловский собор с прилегающими строениями; второй, главный – водное пространство с бегущими по воде кораблями; передний – жанровую сцену с галантно раскланивающимися кавалерами и дамами. Архитектура крепости дает название всей гравюре. Здесь наивно сохранены архаические традиции XVII в. (сферически понятое пространство, размещение названия в развернутой, как свиток, ленте наверху, среди облаков). Но вот жанровая сцена в ведуте – нечто новое в приемах мастера. Она придает образу молодого города подвижность, живость, ощущение многолюдности, вызывает в памяти бессмертные поэтические строки: «Над Невою резво вьются / Флаги пестрые судов». Молодой город, меняющий свой облик прямо на глазах, столица гигантской морской державы – таким предстает Санкт-Петербург на ведуте 1727 г. и таким он не мог быть изображен в 1716-м.
В целом же гравюры Алексея Зубова – как ведуты, так и баталии – создают образ творческой атмосферы созидания. Большие величественные корабли, гордость Петра, и маленькие легкие лодки, на которых император заставлял жителей перебираться с острова на остров; трофейные корабли шведов, ритмический взмах весел, напоминающих крылья или распахнутые веера, клубы порохового дыма – от салютов или от боевой пальбы – во всем ощущается дух суровости, но и праздничности эпохи грандиозных свершений.
Период с 1714 г. и вплоть до кончины императора был очень плодотворным для Зубова. Он создает большие эстампы: «Вид Васильевского острова и триумфального ввода шведских судов в Неву после победы при Гангуте» (1714), «Сражение у мыса Гангут 25 июля 1714 года» (1715), «Летний дворец в Летнем саду» (1716), «Триумфальная пирамида в честь победы при Гренгаме» (1720), «Сражение при Гренгаме» (1721), «Торжественный ввод в Неву взятых в плен шведских фрегатов 8 сентября 1720 года» (конец 1720-х).
Алексей Зубов – несомненно, центральная фигура в графике петровского времени и признанный глава петербургской школы. Основной темой его творчества является образ Петербурга. Виды Москвы и ее окрестностей в композиции, близкой мастеру, запечатлел его браг Иван Зубов (например, «Вид села Измайлова» (1723–1727), того самого, где Петр отыскал знаменитый бот).
Иван Федорович Зубов (1677–1743), вставший с 1714 г. во главе гравировального дела Московского Печатного двора, был более архаическим мастером, чем Алексей. Это особенно видно на его ранних работах – фронтисписах и иллюстрациях к церковным изданиям, оформлении «тезисов» для Славяно-греко-латинской академии. Однако, как и его брат Алексей, под началом А. Шхонебека Иван Зубов усваивает европейские приемы гравирования и композиции тех же «тезисов» («конклюзий», «пунктов», программ философско-теологических диспутов), которые становятся по-барочному динамичными. Ивану Зубову принадлежат изображения триумфальных ворот, бога Петра I (1722), портреты Петра I (1720–1721), Петра II (1728). Всем своим творчеством Иван Зубов был связан с московской школой гравюры, с Московским Печатным двором, самой старой типографией Москвы.
Со смертью Петра I братья Зубовы, подобно Ивану Никитину и Ф. Б. Растрелли, оказываются не у дел. С конца 1727 г. была упразднена Санкт-Петербургская типография. Алексей Зубов переехал в Москву, гравировал «Атлас Всероссийской империи», царские портреты почти в лубочной манере. Последней совместной работой братьев Зубовых был «Вид Соловецкого монастыря» (1744), исполненный также в архаизирующих традициях XVII в.
А. Ростовцев и С. Коровин. Фейерверки
С деятельностью Санкт-Петербургской типографии связано и имя Алексея Ростовцева (1690 – после 1746), работавшего в Москве у Василия Киприанова по делам издания второго варианта «Книги Марсовой». Ростовцев приезжает из Москвы в Петербург и исполняет «Вид осады Выборга в 1710 году» (1715), офорт, в котором соединились древнерусские черты (трактовка пространства плоскостная, клубов дыма – архаически-декоративная) с чертами современными (вполне конкретная архитектура, картографическая точность ландшафта). Алексею Ростовцеву принадлежит также лист с изображением корабля «Гото Предестинация» (1718) к альбому «Куншты корабельные», к которому Алексей Зубов делал виньетку с портретом Петра.
Виды новой столицы и окрестностей помимо Алексея Зубова изображал Степан Коровин (1700–1741). В 1722 г. он вернулся из пенсионерской поездки в Париж. В 1725 г. по рисунку М. Г. Земцова с проекта Н. Микетти Коровин исполняет виды Петергофа. Степану Коровину и Алексею Ростовцеву принадлежит лист с изображением траурного зала с катафалком Петра I в Зимнем дворце, исполненный по рисункам Михаила Земцова, – это первые образцы «каструм долорис» («крепости печали») в отечественной графике.
Как и Алексей Зубов, Ростовцев много работал еще в одном имевшем большое значение в петровское время графическом жанре фейерверка, «огненной потехи», или «потешных огней», устраиваемых в честь какого-либо знаменательного события.
А. Ф. Зубов. Фейерверк 1 января 1712 г. на Неве перед дворцом Меншикова. 1712
Создание иллюминации, произведение салютов, фейерверков было делом непростым, предполагающим не только организационную подготовку и довольно большие денежные затраты. От пиротехников оно требовало прежде всего ловкости и быстроты, от графиков – мгновенной зрительной фиксации огня. Для «огненной потехи» избиралось большое открытое пространство, в Петербурге – обычно на воде (или на льду, если была зима) напротив Летнего сада либо Меншиковского дворца, но чаще между Зимним дворцом и Петропавловской крепостью у Стрелки Васильевского острова. Графический фейерверк, как правило, изображал не только причудливой формы столбы огня, по и полный антураж места, где все происходило, – с пирамидами, аллегорическими фигурами, богами и богинями, обряженными в античные одеяния. В фейерверках использовались весь Олимп и вся сложная символика, это был целый «театрум фейерверков». Иногда листы с изображением фейерверка раскрашивались от руки, и тогда празднество представало во всем великолепии.
Фейерверки (как графические, так и настоящие) имели огромное пропагандистское значение, как, впрочем, и все искусство петровской поры (например, «Фейерверк 29 июля 1720 года в честь победы при Гренгаме», 1720). Совсем не имея в виду фейерверк как произведение графики, а относясь к нему как к реальному зрелищу «огненной потехи», вспомним, что, празднуя Ништадский мир в 1721 г., Петр I собственноручно поджег Преображенский дворец, где прошло его детство, но из которого, по образному выражению современного историка (Е. В. Анисимов), и «вырвался огонь войны». В 1699 г. именно там был заключен договор России с Саксонией против шведов. Война эта нелегко далась Петру и продолжалась более двух десятилетий.
Изображение свадебных пиров в графике петровского времени
Жанровая живопись появилась в русском искусстве XVIII в. не скоро, но жанровая гравюра известна уже с петровского времени. Изображение свадебных пиршеств запечатлевало не только значительное событие, но знакомило с костюмом, церемониалом, интерьером того дворца, где это действо происходило, и потому помимо эстетической ценности имеет огромное исторически-познавательное значение. Таковы гравюры А. Шхонебека «Свадьба Феофилакта Шанского во дворце Лефорта» (1702), А. Ф. Зубова «Свадьба карлика Якима Волкова», или «Якимова свадьба» (1711; полное название – «Брак и веселие Его Царского Величества Карлы, бывшее в Санкт-Петербурхе, на которое собрано было множество карл в доме его светлости князя Александра Даниловича Меншикова, ноября в 14 день, 1710»), описанная датским посланником Юстом Юлем.
В этом ряду стоит и гравюра Алексея Зубова «Свадьба Петра I и Екатерины 12 февраля 1712 года», относительно которой следует сказать, что подготавливалась она явно до свадебных торжеств. Инициатором листа некоторые исследователи считают А. Д. Меншикова, хотя до сего времени спорят о том, какой интерьер изображен на гравюре, – Меншиковский или Зимний дворец, построенные одновременно. Эти споры естественны: зал и реален как будто, и вместе с тем фантастичен; увеличены его размеры, высота совершенно не характерна для петровского строительства. Фантастичность здесь удивительно уживается с почти документально точными деталями быта, обстановки (сюда попало даже паникадило, собственноручно выточенное царем), костюма и характера сцены. В действительности свадьба происходила в Зимнем дворце, в помещениях первого и второго этажей, как это зафиксировано в «Журнале» Петра I. Но многое в изображенном интерьере напоминает и Меншиковский дворец. Версия о Меншикове как об инициаторе гравюры находит подкрепление и в том, что он изображен стоящим за спинами царской четы (подробнее см.: Алексеева М. А . Гравюра петровского времени. С. 123–125). Впрочем, оставим точное установление интерьера до дальнейших изысканий, хотя все свидетельствует в пользу Зимнего дворца. Возможно, что и сам гравер до бракосочетания еще не знал, какой интерьер ему изображать.
А. Шхонебек. Свадьба Филата (Фсофилакта) Шанского. Лист с изображением женской половины. 1702
Народная картинка – лубок
В петровское время получает развитие народная картинка, лубок, «потешные листы», как именовали его в XVII в. (когда чаще всего делали на дереве, а с XVIII в. – на металле). Лубок, или «народная гравюра» (исследовательский термин, появившийся совсем недавно в академических кругах), представляет собой плоскостную, ярко раскрашенную примитивно-самобытную картинку на дереве или на металле. Как бы ни называлась эта народная картинка, она всегда была самого разнообразного содержания – сатирического, сказочно-былинного, бытового – и всегда сохраняла поразительную декоративность общего решения и чисто народный юмор.
Так, огромное распространение имел лист «Мыши кота погребают», или «Мыши кота на погост волокут». Это один из первых памятников русской народной листовой гравюры на дереве, который не имеет аналогов в европейской гравюре, пройдя буквально через три столетия в повторениях на дереве, металле и в более позднее время – в хромолитографиях. По мнению большинства исследователей, самые ранние его варианты датируются концом XVII в., другие возводят сюжет к архетипу какого-то более раннего оригинала, истоки которого видят в скоморошьих действах, смеховой культуре времени Ивана Грозного (см.: Гаврилова Е. И. Об истоках русской графики нового времени // Отечественное и зарубежное искусство XVIII в. Основные проблемы. Л., 1986. Вып. 3. С. 43–54). При экстраполяции этой народной картинки в петровское время невольно вспоминаются слова церковного иерарха, сказанные в адрес императора после свидания с ним: «Усы-то котски, а коленки мои потряслися».
Все эти давно знакомые сюжеты – «Мыши кота на погост волокут», «Славный Объедало и веселый Подливало», «Славное побоище царя Александра Македонского с Пором, царем индийским», «Рейтар на петухе», «Рейтарша на курице», «Коза и медведь» (коза с бубенцами на рогах, с ложками в копытах, медведь играет на дуде, да еще надпись: «Медведь с козою прохлаждаются. / На музыке забавляются») имели давнее хождение. Просуществовав на протяжении всего XVIII в., они с некоторыми модификациями вошли в следующее столетие. Скажем, излюбленные образы козы и медведя преобразовались в сюжет «Гулянье в Марьиной роще». Лубок легко использовал и иноземные образцы. Например, Объедало навеян французской картинкой, высмеивающей Людовика XVI – Гаргантюа, а Рейтар и Рейтарша – прямые оттиски с немецких досок, что замечено еще Д. А. Ровинским. Но русский мастер переводил их на свой язык, выражал в этих образах свое миропонимание, в них крепче всего и ярче всего проявились древнерусские народные традиции. Не случайно в обобщении, умении схватить самое главное, в лаконизме их очеркового изображения прослеживается старейшая традиция иконописных подлинников (подробнее об этом см.: Ровинский Д. А . Русские народные картинки. Т. 1 –5. СПб., 1881; Народная картинка XVII–XIX вв.: сб. ст. / науч. ред. М. А. Алексеева, Е. А. Мишина. СПб., 1996; Мишина Е . А. Русская гравюра на дереве XVII–XVIII вв. СПб., 1998).
Народная гравюра петровского времени продолжала существовать и в последующие десятилетия. В 1740–1750-е гг. ее печатали со старых досок на Московском Печатном дворе «для образца», во второй половине века делали оттиски для коллекционеров.
* * *
Петровская гравюра в целом имела большое влияние на формирование многих живописных жанров, таких как пейзаж, бытовая живопись, живописное изображение интерьера, на другие виды искусства, прежде всего медальерное и миниатюру.
Медальерное искусство петровского времени по быстроте реакции на события государственной важности можно сравнить именно с гравюрой, подчас непосредственно влиявшей на этот вид искусства. Так, в изображении побед и триумфов, планов и видов сражений на наградных и памятных медалях многое взято из «Книги Марсовой». Миниатюра также тесно связана с графикой. В Оружейной канцелярии бок о бок работали Алексей Зубов и Григорий Мусикийский. Центральная часть «конклюзии» «Пресветлому царскому Богом сопряженному союзу» Алексея Зубова и Питера Пикарта (1715) была взята Мусикийским для композиции миниатюры «Конклюзия о престолонаследии» (1717).
Рисунки петровского времени
Графика – это не только гравюра, но и прежде всего рисунок, произведение единственное, уникальное. От петровского времени уникальных рисунков сохранилось немного. Это наивные изображения Христофора Марселиуса, оставившего для нас виды Петербурга («Панорама Петербурга», «Усадьба Меншикова на Васильевском острове» и др.), ценные главным образом не с художественной точки зрения, а, скорее, как точная фиксация вида того или иного архитектурного памятника на данный момент (1725, БРАН). По наивности изображения их можно сопоставить разве что с более ранними листами из «Книги Виниуса», в которую он добавил собственные натурные рисунки, датируемые исследователями 1690-ми гг. Наиболее интересными из них являются портреты членов семейства Виниус и автопортрет, а также изображение «зверя-мамонта» (бумага, перо, кисть, тушь; БРАН).
До недавнего времени к петровской поре относили рисунки из собрания В. Н. Аргутинского-Долгорукого, которые связывали с именем Федора Васильева (1660-е – 1737), живописца Оружейной палаты, иллюстратора книг и архитектора-строителя. Мы не будем настаивать на авторстве Федора Васильева в одних рисунках и относить к самому концу XVIII в. другие. При всем уважительном отношении к результатам проведенного в ГРМ технико-технологического исследования бумаги и знаков на ней думается, что эта разношерстная группа графических произведений требует дальнейшего изучения. Однако не может не вызывать удивления то обстоятельство, как в облике уже вполне сложившейся державной столицы в конце века художник, да еще иностранец, как это явствует из результатов некоторых изысканий (см.: Александрова Н. И. Ж.-Б. де ла Траверс. Путешествующий по России живописец. М., 2000), смог узреть («провидеть» – неподходящее слово для прошлого, но смысл такой) «приют убогого чухонца».
Тонкой контурной линией изображены Березовый остров, Солдатская слобода, Царская аустерия, Трубецкой раскат, мазанковые дома. Среди этих рисунков, так искренне-неприхотливо запечатлевших абрис только-только пробивающегося к жизни нового города, ничем еще не напоминающего будущую блестящую столицу, наиболее впечатляющий – изображение «князь-игуменьи Всепьянейшего собора» (бумага, бистр, перо, кисть; ГРМ). Исследователи видят в нем уже знакомую нам по портрету Андрея Матвеева Анастасию Петровну Голицыну, посвященную в шутовской сан в самый канун 1718 г. (см.: Гаврилова Е. И. Русский рисунок XVIII века. Л., 1983. С. 18). Но в беглом очерковом рисунке вряд ли можно рассмотреть портретные черты. Несомненна лишь сама принадлежность этого персонажа к «Всепьянейшему собору», о чем свидетельствуют нарисованные бочки у стены, кувшин с гданьской водкой (что и написано на нем) и чубук. Вопрос только в том, кому в конце столетия было интересно рисовать образ игуменьи шутовского собрания, созданного Петром I в молодости, до всех его побед как в светской, так и в церковной жизни? Восемнадцатое столетие еще полно своих тайн, и искусствоведческой науке найдется немало работы…
Не затрагивая архитектурных планов и проектов, имеющих прикладное значение, что само по себе интересно, ибо дает представление о строительстве того или иного памятника на разных этапах его создания, отдадим должное архитекторам, оставившим много рисунков чисто декоративного характера. Это, например, подписной рисунок М. Г. Земцова «Грот в Летнем саду» (бумага, перо, кисть, тушь, акварель; 1720-е, ГЭ), или подписной рисунок Н. Микетти, изображающий фонтан Адама в Нижнем парке Петергофа (бумага, акварель; 1721, ГЭ), или его же Перспективный вид Марлинского каскада в Петергофе (бумага, акварель; 1721, ГЭ).
Изяществом исполнения и выдумкой отличаются рисунки скульптора-декоратора Никола Пино. Например, проект карниза оконной рамы с рельефным мотивом головы кабана, предполагаемого всего-то для палаток, размещенных в Летнем саду вдоль Лебяжьей канавки (1725?), или его же эскизы панно Дубового кабинета Петра в Большом Петергофском дворце (1718–1719; оба рисунка из собрания ГЭ; бумага, сангина).
Такой к концу жизни Петра 1 рисуется картина становления светского искусства во всех его видах и жанрах. Воистину Петр Великий мог бы сказать: «Будем надеяться, что… на нашем веку мы пристыдим другие образованные страны и вознесем русское имя на высшую степень славы». Это слова из записок брауншвейгского резидента Фридриха Вебера (опубл.: РА. М., 1872. Вып. 6. Стб. 1087).
Однако процесс обмирщения был совсем не таким легким и далеко еще не завершившимся к концу правления императора, а после Петра даже усложнился. Философами подмечено, что светская культура, которая и в Западной Европе, и в России является следствием распада культуры церковной, никогда окончательно не порывает со своими религиозными корнями. Более того, по мере дифференциации и развития светской культуры в ней всегда остается «религиозная стихия», свой внецерковный мистицизм (см.: Зеньковский В. В. История русской философии: в 2 т. Л., 1991. Т. 1. Ч. 1. С. 82). Это следует иметь в виду при осмыслении места и значения русского искусства XVIII в.
