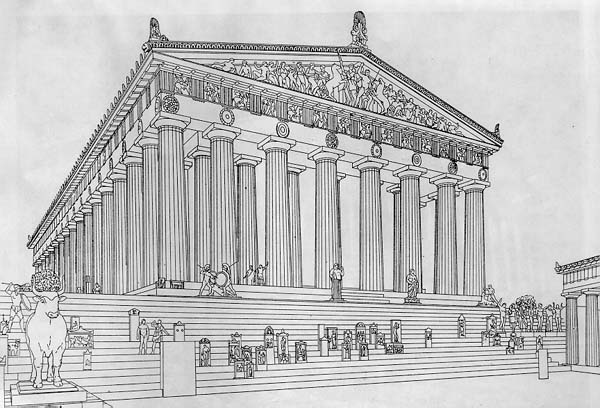Волков Н.Н. Композиция в живописи
8 лет ago Enottt Комментарии к записи Волков Н.Н. Композиция в живописи отключены
О понятии композиции
В таких мало устоявшихся науках, как теоретическое искусствоведение, принято начинать с терминов. Искусствоведческие понятия живут до сих пор в тумане вкусовых оценок и деклараций художников, рецептов педагогической практики, в борьбе эстетических систем, в плену словесной трясины.
Критикам, теоретикам и педагогам, конечно, важно, чтобы их верно поняли. А для этого надо установить однозначные понятия, и там, где это возможно, воспользоваться терминами смежных наук. Так и поступают ученые, заинтересованные по роду своей деятельности в точной терминологии.
Классический пример путаницы связан со словами „цвет» и „тон». Конечно, смысл слова определяется также контекстом. Но для правильного понимания контекста, допускающего известную свободу в употреблении слов, надо расчленить понятия, увидеть сущность и состав предмета.
Именно так разобран терминологический комплекс „цвет» в моей книге „Цвет в живописи».
Главным источником терминологической путаницы в области теории искусства служит, во-первых, словоупотребление в художественной практике. Слова становятся здесь относительно понятными в контексте данной художественной школы. Во-вторых, источником путаницы служит игра понятий в отвлеченных эстетических системах. Слова уясняются здесь в контексте философской борьбы, для которой связь с нашим предметом — вопрос второстепенный.
Я за терминологическую ясность. Но я против терминологических изысканий, не связанных с анализом предмета.
Нельзя сначала создать систему терминов (понятий), затем использовать ее в анализе предмета исследования. Термины устанавливаются в анализе предмета. Ясность контекста обеспечивает однозначность понимания и там, где слова не стали терминами. Больше того, контекстная ясность не менее важна, чем чисто терминологическая. В произвольном контексте и термин теряет качество термина.
Слово „композиция» — пример терминологической неустойчивости. Не углубляясь в историю словоупотребления, приведем некоторые типичные современные определения.
- В.А.Фаворский — „Одно из определений композиции будет следующее: стремление к композиционности в искусстве есть стремление цельно воспринимать, видеть и изображать разнопространственное и разновременное… Приведение к цельности зрительного образа будет композицией…». „Крайней формой композиционного решения будет станковая картина, в которой проблема конца покрываетсяпроблемой центра, где мы время как бы завязываем узлом».
В основе композиции, таким образом, лежит „приведение к цельности» разновременного и разнопространственного в действительности, а следовательно и в процессе восприятия.
Фаворский выделяет как композиционный фактор — время. Это понятно в контексте творческой практики Фаворского, утверждавшей реалистическую линию современного классицизма.
- К. Ф. Юон видит в композиции конструкцию, то есть распределение частей на плоскости, и структуру, которую образуют также плоскостные факторы. Юон не только не говорит о синтезе времени, как признаке композиции, но и пространству (перспективе) отводит подчиненную роль как средству, лишь дополняющему композицию. Его концепция привычна для современного искусствознания, выдвигающего обычно в качестве композиционных плоскостные факторы. (Картина — прежде всего плоскость.)
- Л.Ф.Жегин, Б.А.Успенский считают, что центральной проблемой композиции произведения искусства, объединяющей самые различные виды искусства, является проблема „точки зрения». „.. .В живописи… проблема точки зрения выступает прежде всего как проблема перспективы» (пространства).
Наибольшей композиционностью — по Б. А. Успенскому и Л.Ф. Жегину — обладают произведения, в которых синтезировано множество точек зрения (активное пространство: икона, современная западная живопись). Построение пространства с одной, внешней точки зрения — прямая центральная перспектива — признак композиционной аморфности.
Таким образом, проблема композиции в живописи, по их мнению, это проблема построения пространства — тип перспективы. Определение Успенского — Жегина, очевидно, обусловлено эстетической концепцией, типичной для 20-х годов, а у Успенского, кроме того, попыткой ввести понятие „композиции» в контекст современной „семиотики».
Спор о терминах и понятиях есть спор о предмете. Обращаясь к предмету, мы сразу попадаем в область несоответствия принятых понятий предмету, в область недоумений.
В самом деле, композиционно или нет „Поле маков» Клода Моне? i Разумеется, это не сюжетная композиция. А разве не было композиционных пейзажей? Сторонники „картины» скажут, что „Поле маков» — это только этюд с натуры. А почему этюд с натуры не может быть композиционным? Натурность здесь, очевидно, ни при чем. Кальф или ван Альст несомненно писали свои натюрморты с натуры. Кто же откажет им в композиционности? Остается — этюдность. Но что именно понимать под этюдностью, явно зависит от того, что понимать под композиционностью. Если композиционность равносильна завершенности, то этюдность — это незавершенность. А не может ли быть незавершенность условием для некоторой композиции? Если композиционность — мысленная, „логическая» опосредованность построения, то этюдность — только чувственная и эмоциональная непосредственность. Но какова должна быть мера логического в искусстве и мера непосредственности? Необходимость -случайность. Однако и случайность необходима. Построенность -аморфность. Однако и аморфность есть форма на другом уровне.
Целостно ли „Поле маков» К. Моне? Да, целостно и по цвету, и фактурно, и по типу пространственного решения, и по характеру состояния и по эмоциональному тону. Случайно ли это вырезанный кусок природного пейзажа? Нет, — его нельзя ни растянуть, ни обрезать, предметы и пятна цвета нельзя изменить или переставить без ущерба для образа. То, что это так случайно — существенно, ибо выражает изменчивую жизнь.
Пространство реального поля мыслится и за пределами рамы. Оно не замкнуто. Пространство картины „Поле маков» замкнуто. Его нельзя растянуть уже потому, что пятна цвета создают выразительную гармонию только в таком размещении. Формы деревьев и облаков образуют общую мелодию. Самое высокое дерево (кульминация ритмического ряда) находится именно здесь. Выражено ли в картине время? Да, ибо выражен трепет жизни. Завершенная ли это картина? Да, и внимательно завершенная без излишней детализации. Значит „Поле маков» композиционный пейзаж? А мы привыкли считать образцами композиционных пейзажей совершенно иные образцы, скажем — героические пейзажи Пуссена. Но разве только вымышленный пейзаж композиционен?
Что же такое композиция? В чем признаки композиционности? В чем она по существу, вне рецептурных рамок?
Если композиция — синтез разновременного, то задача изобразить „мгновение» антикомпозиционна. Но ведь это труднейшая задача построения особого целостного образа. Всякое мгновение есть связка в ходе времени.
Если основа композиции — только плоскостные факторы изображения, то требование подчинить композицию глубокому пространству нелепо. Но тогда в чем же извечная задача изображения на плоскости неплоских фигур и трехмерного мира?*
Если композиция есть выражение синтеза разных зрительных позиций, то импрессионистический пейзаж антикомпозиционен, также как наивная „копия» любителя. Но можно ли приписывать импрессионистам задачу простого копирования? Импрессионистический пейзаж есть в большей мере, чем многие другие, выражение.
ПРОБЛЕМА ЦЕЛОСТНОСТИ. СУЩЕСТВЕННЫЕ ПРИЗНАКИ КОМПОЗИЦИИ
Естественно начать с родового признака композиции — цельности (целостности). Этот признак открыто или скрыто присутствует во всех известных мне определениях. Вспомним, что В.А.Фаворский говорит о зрительной форме цельности разнопространственного и разновременного. Б. А. Успенский и Л. Ф. Жегин — о синтезе зрительных позиций, К. Ф. Юон о целостной конструкции, единой структуре.
Теперь в гуманитарные науки, в том числе и в искусствоведение, прочно вошли слова: синтез, конструкция, структура. В разговорах об искусстве они стали, так же как слова „цельность», „целостность», обычными словами, возникающими так или иначе всякий раз, когда говорят о композиции. Здесь нужно размежевание.
Структура, конструкция, композиция — слова, обозначающие семейство родственных понятий и более или менее диффузных значений, относящихся к разным явлениям и наукам. В одних науках эти слова строго терминированы. Тогда они обозначают понятия. Например, слово „структура» (молекулы) в химии — термин, и спора о его значении не возникает. В языкознании слово „структура» пытаются делать термином. Однако значение его еще остается диффузным. В теории искусства значение этого слова еще менее ясно. Словом „структура» обозначают здесь узел разных понятий, который еще надо распутать. Общего понятия „структура» пока не существует. Да и не будет ли оно по отношению к отдельному виду искусства слишком абстрактным, абстрактным до пустоты?
Казалось бы, более определенное по значению слово „конструкция», обычное в области предметов быта и техники, становится скользящим словом в области искусства — даже в области прикладного искусства, — путаясь со словами „структура», „композиция». Даже в архитектуре слово „конструкция» двузначно. Либо оно обозначает чисто строительное соединение частей здания по законам статики и в соответствии со свойствами материалов, либо также конструкцию для жизни и деятельности человека. У художников принято говорить о конструктивном рисунке, в противоположность светотеневому. Казалось бы, имеется в виду рисунок, выражающий строение предмета. Но почему строение его не может быть выражено в светотеневом рисунке? Что такое „конструктивный» рисунок — требует разъяснения.
Слово „композиция» терминировано в музыке. Однако музыковедческое определение композиции как общего плана произведения, как его деления на крупные части, деления традиционного для данного типа произведения (подобно частям триптиха или традиционным пяти действиям драмы) слишком формально, его хочется дополнить анализом конкретных форм, строящих связи между частями. Компоновать, не значит ли это не только расчленять, но и связывать?
Слово „композиция» почти терминировано и в теории литературы. Но в противоположность музыковедению деление произведения на традиционно заданные части и вообще на крупные части — общий формальный план произведения — здесь называют архитектоникой. Композицию же понимают как размещение в тексте конкретного материала: данного сюжета в сочиненной писателем последовательности повествования или — как смену точек зрения в повествовании. В последнее время именно смену „точек зрения» иногда называют главным принципом в поэтике композиции, что, конечно, спорно.
Бесспорно лишь то, что слова „структура», „конструкция», „композиция» имеют общей основой понятие целого и обнимают различные виды соотношения части и целого (различные виды целостности)2.
Беспорядок в употреблении слов „структура», „композиция» и „конструкция» применительно к искусству нельзя устранить сразу. Надо постепенно уточнять различия и находить аналогии, пользуясь употреблением этих слов в других областях знания, стремясь в идеале указать точное место в системе понятий „часть — целое» для данного вида целостности исходя из специфики явления.
Есть, правда, соблазн ограничиться совершенно абстрактным определением композиции как цельности.
В самом общем смысле композицией можно было бы назвать состав и расположение частей целого, удовлетворяющее следующим условиям:
- 1) ни одна часть целого не может быть изъята или заменена без ущерба для целого;
- 2) части не могут меняться местами без ущерба для целого;
- 3) ни один новый элемент не может быть присоединен к целому без ущерба для целого.
В эстетической литературе немало абстрактных определений такого рода. Они кажутся на первый взгляд убедительными. В самом деле, абстрактное определение подходит к любым художественным явлениям, даже таким, где части сохраняют относительную независимость (драма, симфония, триптих).
В триптихе Рубенса „Алтарь св. Ильдефонса» (Вена) не только формат боковых створок, но и обращенность коленопреклоненных фигур предопределены. Створки могут существовать отдельно, не теряя художественного смысла. Однако их нельзя переставить местами.
В них подсказаны связи, выходящие за их границы. Они не могут быть расширены, чтобы не соперничать с центральной частью и т. п.
Со всей очевидностью абстрактное определение композиции подходит для таких произведений, как станковая картина и станковый лист. Известно, как трудно фрагментировать картину. Фрагмент часто выглядит неожиданным, необычным. Даже увеличение картины на экране, когда второстепенные куски кажутся совсем пустыми, или уменьшение ее на репродукции, когда пропадают детали, даже зеркальная копия — почему-то меняют целое.
Приведенная формула, однако, слишком широка, чтобы быть определением композиции. Она перечисляет лишь необходимые признаки ее, входящие в общее понятие целостности. Пользуясь этой формулой, нельзя отличить в конкретном явлении (в частности, картине) композиционное единство от некомпозиционного.
В самом деле, любое расположение линий в кадре, любое размещение предметов в изображенном пространстве представляет собой целое — единство, ограниченное кадром. Целое меняется, если удалить или заменить какие угодно заметные элементы целого, или переставить их местами, или расширить кадр. Это относится, очевидно, не только к картине, но и к другим типам изображения.
Целое меняется не только при зеркальном показе картины, но и при зеркальном показе любого изображения, не только при отсечении части картины, но и части другого изображения. Горсть песчинок, брошенная на плоскость, представляет собой также целое. По законам вероятности песчинки никогда не лягут регулярно на равных интервалах или правильными группами, всегда сгруппируются в случайные группы. Уберите часть песчинок. Целое изменится. Перетряхните песчинки. Расположение их изменится, изменится и целое. В новом целом абстракная формула единства будет снова соблюдена. Но перед нами, очевидно, некомпозиционное единство. Для того чтобы создать композицию или увидеть в случайных группах композицию, надо связать все группы каким-то законом, внутренней связью. Тогда группы уже не будут случайными. Мы можем организовать ритм групп, составить узор, добиваться сходства групп песчинок с предметами, наконец, стать на путь картинного изображения. Поступая так, мы преследуем цель объединить элементы случайного единства связями, создающими закономерное целое.
Рассматривая морозные рисунки на стекле, можно увидеть орнамент, ритмы, листья гербария, пейзаж. Увидеть так — значит во внешнем беспорядке (случайности) увидеть внутренние связи, их организующий принцип. Леонардо да Винчи искал композиционные связи в случайных пятнах сырой штукатурки, имея в виду сюжетные композиции.
Я убежден, что однозначное определение понятия „композиция» необходимо выработать в анализе конкретных явлений искусства. Но нельзя идти вслепую. Нужны предварительные ориентиры, предварительная концепция. Читатель найдет ниже эту концепцию.
Абстрактное определение годится одинаково и для композиции, и для структуры, и для конструкции как видов цельности. Но и композиция, и конструкция, и структура предполагают закономерное деление на части в противоположность рассечению целого на куски. Распиленный на куски ствол представляет собой целое (но уже не ствол), удовлетворяющее всем условиям абстрактного определения. Расчленение на куски разрушает структуру ствола, разрушает структурные связи и структурную цельность. Одно дело — целое и его куски, другое — целое как структура и компоненты этой структуры. Но и структура может быть композиционно пустой. Из обмытых водой корней рухнувших деревьев, разыскивая интересные композиционные ходы, большую часть я не возьму, хотя все они — сплетения закономерных структур, немногие отберу, потому что увижу в них композиционные связи — не обязательно изобразительные, а чаще всего только выражающие сопротивление, напряжение, борьбу органических сил.
Различие между структурой, конструкцией и композицией заключается в характере членения целого и связей между его частями. В этом смысл учения о части и целом.
Одно и то же целое может быть разделено на разные части: на куски, нарушающие любые закономерные связи, на компоненты структуры, образующие структурный тип целостности, на части и средства композиции, связанные в композиционное целое, на части и детали конструкции как целого. Целостная структура органической ткани не предполагает композиционности целого. Композиционный принцип объединения не требует конструктивной целостности, хотя и взаимодействует с ней.
Закон расчленения целого на части, соответственно, закон синтеза целого из частей, характер частей и связей — вот общий путь для различения понятий композиции, структуры, конструкции. Наиболее общее из этих трех понятий — понятие структуры.
СТРУКТУРА. КОНСТРУКЦИЯ. КОМПОЗИЦИЯ
Различные применения слова „структура» дают основание для выделения особого вида соотношения целого и частей. Структура как целое состоит из закономерно связанных частей, которые в отличие от случайных кусков мы будем называть компонентами или элементами целого. Структура определяется единым характером связей между элементами, единым законом формообразования. Характер связей не предуказывается, ибо он и определяет тип структуры (функциональная структура, композиционная структура и т. п.)
Структура не обязательно представляет собой завершенное целое. Дерево растет, ветвится, сохраняя структуру. Изображение может быть продолжено, оставаясь структурно тем же. Элементы структуры, вообще говоря, могут меняться. Важен лишь общий характер связей между ними, общий „принцип формообразования».
В искусствознании компоненты структуры называют иногда формами или средствами. Так, в музыке выделяют как компоненты общей структуры произведения (общей формы) — мелодию, а в этой последней — звуковысотное движение и ладовые тяготения с их интонационным содержанием. Мелодическая ткань затем формируется размером и ритмом, взаимодействует с гармоническими формами. Развивающаяся во времени целостная звуковая ткань может быть подчинена полифонической структуре, распадаться на отдельные „мысли» и „периоды» и т.д. Все это компоненты структуры.
Именно о структуре цвета в картине как средства живописи я гонорил применительно к различным типам картины, пользуясь выражением „цветовой строй» и указывая на структурную же взаимозависимость цвета и пространственного решения. Общий цветовой строй мы находим в разных композициях.
С понятием „структура» по отношению к произведению искусства часто связывают так называемую „многосложность». Говорят, что в процессе восприятия мы проникаем во все более и более глубокие слои структуры произведения. Один слой структуры служит базой для восприятия другого. Действительно, произведение искусства -многослойная структура (от звуков, красок — до идей). Однако компоненты структуры здесь так связаны между собой, что с равным правом можно говорить об их переплетении. Пространственный и пластический строй в живописи и рисунке невозможны один без другого и действуют вместе. Краски и линии выражают чувства не только через изображения предметов, действий, но и сами по себе. Не зная сюжета картины, мы видим по краскам, что она радостна или мрачна. Сюжет может быть в остром контрасте со „смыслом» колорита. И это имеет образный смысл (например, в карикатуре, в изобразительной иронии).
Структурный анализ явлений искусства теперь иногда определяют как анализ знаковых систем. Бесспорно, в произведении искусства значительное место занимают знаки, атрибуты, признаки. Но анализ структуры произведения искусства не сводится к анализу знаковых систем, если не расширить безгранично понятие „знак»3.
Стремясь оградить анализ структуры художественного образа от упреков в формализме, структуру образа определяют иногда как процесс, путая процесс восприятия с его постепенно формирующимся в сознании результатом. Структуру образа понимают для всех искусств как развитие во времени. Едва ли такому пониманию структуры избежать упрека в психологизме. Образ заложен в материальной действительности произведения его творцом. В музыке — во временном ряде, в живописи — в пространственном. Задача воспринимающего состоит в добывании заложенной художником информации, а не в накоплении спонтанно возникающих ассоциаций (шумов, мешающих проникновению в замысел художника).
Сейчас смешно доказывать, что научное изучение формы вовсе не связано с культом формы и формалистическими течениями в искусстве. Форма обогащается вместе с обогащением содержания.
Совершенно так же и анализ структуры произведения искусства вовсе не спутник формализма. В формализме следует обвинять так называемый „структурализм», изучающий структуры искусства как бессодержательные структуры.
Конструкция — тип структуры. Элементы в ней связаны функциональными связями. Цельность конструкции определяется единством функции. Части конструкции выполняют частные функции: таковы узлы и механизмы машин, члены и органы живого организма, необходимые для пользования части предметов быта. Внешнее сходство целого с машиной, конечно не создает конструкции и может быть даже антиконструктивным.
Конструкция не обязательно замкнутое целое. Она может быть и замкнутой (завершенной) и разомкнутой. Можно сообщить конструкции дополнительные функции, добавив новые узлы, связи. Части конструкции могут быть дополнены и заменены без разрушения функционального единства ее. Конструктивные связи есть везде, в любых структурах, поскольку структуры выполняют определенные функции.
Итак, конструкцию следует рассматривать как структуру, с особым характером связей между целым и его компонентами. Элементы конструкции связаны с целым и между собой функционально.
Особый характер связи между целым и его компонентами определяет и композицию как вид структуры, в частности композицию произведения искусства. Если структура, вообще говоря, не замкнутое целое, ее цельность — в единой системе формообразования, то композиция — всегда замкнутая структура. Части композиции связаны между собой, но они обязательно связаны между собой и тем, что связаны с целым.
Связи, создающие композиционное целое — это, во-первых, конструктивные связи. В картине это — аналогии и контрасты цвета и линии, выделение главного пятна, предмета, ряды и контрасты в положении главных предметов, пространственный строй и т.п.
Композиция произведения искусства, в том числе и композиция картины, во-вторых — смысловая целостность. Конструктивный центр есть чаще всего и смысловой узел. Функции конструктивных связей в картине — создавать и укреплять смысловые связи. Вспомним „Алтарь св. Ильдефонса» Рубенса. Мадонна, окруженная ангелами, в центральной (большей) части триптиха — главная тема. В правой створке — коленопреклоненная королева, обращенная лицом к мадонне. По принципу центральной симметрии построена левая створка, тот же формат, те же позы. Вместе — главные фигуры трех частей вписываются в равнобедренный треугольник. Боковые створки — как скрепы единой формы. Это — внешняя „конструктивная» связь силуэтов. Но жесты коленопреклоненных фигур помимо внешней пространственной связи триптиха содержат и смысловую связь: это жесты молитвы, обращенной к мадонне, поклонения ей. Если изолировать левую створку, смысл жеста сохранится, а пространственная конструктивная связь оборвется.
Впрочем, конструктивные связи могут и не нести смысловой нагрузки. В „Тайной вечере» Леонардо объединение апостолов в группы „по три» создает симметричные ритмические ряды. Объединение по три и цезуры между группами конструктивно необходимы в такой растянутой горизонтали, как кадр этой росписи. Но, кроме того, деление на группы „по три», по-видимому, содержит и сюжетный подтекст. Это как стихотворение, разбитое на строфы. Деление на группы говорит, что у каждой группы своя тема внутри общей темы. Делением на группы эти темы прямо не подсказаны. Задача зрителя прочесть эти темы по жестам, по мимике. А откинутая фигура Иуды своим контрастным движением прямо выражает контрастную смысловую связь. Слова Христа и непроизвольный ответ Иуды. Создаются два плана внутри действия: „Христос — апостолы» — хоровая связь, „Христос — Иуда» — связь контрастная. Симметричный жест раскинутых рук Христа несет обе функции, конструктивную — связывает левые и правые группы в единый хор — и смысловую: это жест горького обращения. Остальное — реакция на него. Конструктивные связи могут создаваться любыми средствами данного вида искусства. Их функция — облегчать обзор и выделять для восприятия, а иногда и подсказывать смысловые, внутренние связи. Композиция произведения искусства всегда есть конструкция для понимания, конструкция для смысла.
Внутренние смысловые связи — специфический для произведения искусства тип связей. Они базируются на конструктивных связях и без них не были бы выражены. Но в них главная суть (прочность) композиционной целостности.
В теории композиции, естественно, конструктивные и смысловые связи рассматриваются вместе. Первые носят более общий характер и вытекают из природы нашего восприятия искусства, вторые — конкретны и содержатся в данном отдельном произведении искусства. Одни существуют для других.
Если в структуре вообще элементы могут быть заменены — лишь бы сохранился тип связей, закон формообразования, — то в композиции и отдельные компоненты не могут быть заменены без ущерба для целого. Итак, композиция произведения искусства есть замкнутая структура с фиксированными элементами, связанная единством смысла.
Как мы видим, понятие „композиция» здесь поставлено в ряд смежных понятий из круга проблемы целостности.
Теперь мы можем перейти к конкретному определению композиции картины.
КОМПОЗИЦИЯ КАРТИНЫ
Композицией картины мы называем построение сюжета на плоскости в границах „рамы». Целью и формообразующим принципом композиции картины является, однако, не построение само по себе, а смысл. Конструкция (построение) выполняет функцию подачи смысла.
Слово „сюжет» понимается достаточно широко. Сюжет может быть вымышленным, взятым из легенды, текста, взятым непосредственно из наличной действительности. Композиция может быть сочинением новой действительности и толкованием наличной действительности.
Но сюжет картины ограничен тем, что можно изобразить, что может найти внешнее подобие в линиях и красках на плоскости. Это, вообще говоря, предметный мир, предметы, действующие лица, пространство и время. Понятие, отвлеченную мысль прямо изобразить нельзя, здесь неизбежно иносказание — предметный посредник, например, олицетворение. Такие картины, как „Клевета» Боттичелли — это аллегории, замещающие предметным рассказом связь понятий. Для незнающих аллегорческий „код» подобной картины они недоступны и читаются как прямые изображения предметной действительности.
Сюжет может быть адекватно переведен на слова и может быть выражен на языке картины, на языке танца, музыки и т.д. Он, следовательно, инвариант различных искусств и слова.
Смысл картины (и художественный образ) возникает в результате изложения сюжета на языке изображения. Он неотделим как от сюжета, так и от изобразительного изложения. Он, строго говоря, непереводим и на слова. Здесь возможны только аналогии. Меняется красочная ткань картины, меняется или затемняется и смысл ее.
Сюжет и его изложение на плоскости картины, соединяясь, порождают смысл и образ в целом. Это напоминает столкновение сюжета с текстом в литературе и, в частности, — сюжета (последовательности событий) с временем текста (последовательностью изложения), членений сюжета и членений текста. Сам по себе сюжет лишен образного смысла. Он заключает в себе возможность разных образов, разного художественного толкования.
Сюжет евангельской „Притчи о блудном сыне» и картины Рембрандта „Возвращение блудного сына» (Гос. Эрмитаж) один и тотже. Но в тексте притчи это рассказ о событиях, предпосылка для поучения. В картине Рембрандта — зримая кульминация душевной драмы.
История живописи сохранила нам не одну картину на сюжет притчи, и все они несут в себе разный смысл. Сравнение двух картин на тему притчи сделает определение композиции картины наглядным. Станет ясным, как сюжет, соединяясь с построением его на плоскости, приобретает смысл — и тем самым делает содержательной форму изложения, связывает единым узлом композицию.
Излагая на холсте сюжет притчи, Рембрандт не хочет видеть в ней иносказания, аллегорического изложения евангельской морали, выраженной в таких словах: „(10) Так, говорю вам, бывает радость у Ангелов Божьих и об одном грешнике кающемся». Мораль притчи выражена в Евангелии, кроме того, в иносказании о пропавшей овце и потерянной драхме (три иносказания, три одеяния одного тезиса).
Что же берет художник из сюжета притчи? Рембрандту одинаково чужды и иносказательность притчи и повествовательность жанровой картины. В тексте притчи действие широко развернуто в пространстве и времени. Отец видит блудного сына издали и бросается к нему навстречу, припадает к нему, обнимает и целует. На картине все связано в один узел времени, в одном пространстве. Слепой отец (по притче отец видит сына издали) положил руки на плечи сына в знак прощения и в жесте узнавания. В притче старший сын приходит, когда уже идет пир, и отец „вышед, звал его». Встреча со старшим сыном отделена во времени и пространстве от встречи с младшим. В картине — старший сын присутствует в первые минуты встречи отца с блудным сыном, в минуты прощения. Его реакция не читается как реакция завистливого возмущения („ты никогда не дал мне и козленка»). Осуждает акт прощения, скорее, сидящий слуга. Старший сын углублен в смысл события.
Такое построение действия требовало или — что то же самое — требовалось толкованием сюжета как душевной драмы.
Необычен для жанровой картины размер холста; крупные фигуры позволяют многое сказать о человеке не посредством его включения в цепь событий, а посредством углубленной передачи его состояния. Обстановочные детали отсутствуют. Едва заметно дерево в глубине справа. Дом скорее угадывается по положению головы служанки в левом верхнем углу картины, чем видится, даже если учесть потемнение тонких слоев живописи. Художник как бы говорит: все это для меня неважно, я выделяю главное. Где же это главное? Главное не в центре картины. В центре картины вертикальная полоса полумрака -цезура. Светлыми красками и тяжестью кладки вырвана из полумрака группа слева. Слепой (?) старик — отец, склоненный над сыном, положивший руки на плечи сына, и коленопреклоненный сын, припавший к отцу, слились в одном светлом пятне. Это — главная группа. Справа у самого края картины — выделяется фигура другого сына, стоящего в профиль. Она освещена слабее, но все же настолько, что образует устойчивый правый край композиции. Рядом с ней немного глубже в полумраке — сидящая фигура работника. Посередине в густом полумраке едва заметно лицо служанки. И, наконец, в левом верхнем углу намечен еще один персонаж. Никакого намека на пир. Перед нами децентрализованная композиция с главной группой (узлом события) слева и цезурой, отделяющей ее от группы свидетелей события справа. Событие заставляет по-разному реагировать участников сцены. Сюжет строится по композиционной схеме „отклика».
Еще о положении на холсте главной группы. Она не захватывает геометрический центр, но находится и не у самого края картины. Мысленно передвинем ее к краю или срежем левый край, и группа потеряет значение главной, смысл схемы „отклика» пропадает. Подобно правой фигуре, группа приобретет функцию замыкания и непременно захочется ослабить свет на ней и фронтальное положение заменить ракурсным. Главным станет пространство между выступающими „кариатидами». Это — другой смысл. Изменится смысл и в том случае, если мы приблизим главную группу к геометрическому центру. Сожмется расстояние между драматическим событием прощения и его свидетелями, скомкается мотив оценки: раздумье старшего сына, осуждение слуги. Общечеловеческий смысл превратится в смысл житейской сцены. В композиционный расчет по смыслу образа очевидно входит как децентрализация, так и ее точная мера —раздельность групп, цезура; это — событие, а это — разноречивый отклик. Таково построение сюжета на плоскости относительно рамы.
Пространственный и световой компонент композиции. Яркость и тяжесть пятен располагает фигуры по степени их важности и в общем смысле определяет порядок чтения композиции. Главная группа сразу бросается в глаза, хотя и расположена не в центре. Правая стоящая фигура выделена светом слабее, воспринимается как световой и цветовой отзвук главной. Здесь известное внутреннее единство. Сидящая фигура, выражающая осуждение, затенена сильнее, и в позе и в колорите — контраст. Другие свидетели едва выступают из мрака. Левая группа и правая группа разделены темной полосой, сливающейся с общим мраком среды. Пространство подчинено свету и тени, оно выражено градациями света и плотностью мрака. Главная группа фронтальна и возвышается на фронтально расположенном подиуме. Ракурсная диагональ подиума и ракурсное положение правых фигур дают толчок взору, проникающему в глубину. Дальше взор вязнет в мраке. Перед нами неопределенная по форме „пещера», глубина которой едва намечена лицом служанки, а не метрически ясная трехмерная система с метрически ясным расположением фигур и предметов.
Сильные световые контрасты (функция выделения, расчленения) и явные цветовые повторы (функция связывания). Контраст тяжелой кладки в одежде отца и рубище блудного сына и его необычайно выразительных ступней (как будто бы именно от фронтально расположенных ступней на первом плане читается вся история сына: перед нами действительно свинопас) и легкой кладки в живописи полумрака. Контрастное положение голов отца и припавшего к нему сына, аналогия в положении голов свидетелей — все это вклад в смысл картины, существенные элементы образа, изобразительное толкование сюжета; все это конструктивные формы, выражающие смысловые связи. Сравните картину Рембрандта с картиной Фети на тот же сюжет (Дрезден). Там — другой смысл, другое изобразительное толкование — бытовое, — там и другая композиция. Бытовая сцена требовала обстановочных деталей. Основой для этих двух картин служит текст притчи. Но как мало из него взято у Рембрандта и как много изменено, как ясен путь композиционного мышления.
Рембрандт толковал сюжет, взяв его из текста притчи и переосмыслив в духе своего времени и своих творческих устремлений. В наше время и в нашем стремлении выразить современную драму жизни, духовный мир, труд и предметную среду борца за коммунизм, его идеалы — тексты старых легенд, притч и мифов, естественно, перестали быть источниками сюжетов.
Художник, однако, взяв из самой жизни сюжет, собирает документы, свидетельства, обогащает его собственным жизненным опытом, как участник события, словом, составляет неписаный рассказ: „текст». Его изложение красками на ограниченном куске холста и в этом случае есть результат соединения сюжета, заложенного в „тексте» жизни и допускающего различные толкования, с предметным, пространственным, цветовым построением на плоскости, то есть композиции.
Сейчас можно только обобщенно представить себе личный, жизненный, неписаный текст сюжета А. Дейнеки „Оборона Петрограда». Но каков бы он ни был, ясно, что глубокая композиционная работа отделяет этот „текст» от его образного толкования в картине. Смысл надо было выразить посредством рисунка и красок на холсте, понимая, что только смысл-душа (внутренняя сторона) образа — гарантирует действенную, прочную целостность картины.
Итак, композиция картины создается единством смысла, возникающим в изобразительном изложении сюжета на ограниченном куске плоскости. В искусствоведческой литературе обычно говорят о единстве формы и содержания, об их диалектике. Отдельные компоненты содержания могут служить формой других компонентов. Так по отношению к „геометрическим» формам распределения пятен цвета на плоскости цвет выступает как содержание. Но сам он есть также внешняя форма для передачи предметно-изобразительного содержания, пространства и т.п. Предметное содержание в свою очередь может быть формой идейного содержания, формой для отвлеченных понятий (аллегория). Предметные компоненты содержания могут быть довольно хорошо переданы словами. В отличие от предметных компонентов содержания смысл картины существует только на ее языке, на языке всех ее форм. Смысл — внутренняя сторона целостного образа. Словесный анализ смысла может быть только толкованием: аналогизированием, противопоставлением, сопоставлением. понимании смысла картины всегда богаче ее толкования.
Следует считать недостаточным анализ композиции как состава и расположения частей изображения и системы средств изображения безотносительно к смыслу ее. Стилевое понимание законов композиции как законов единства внешних, в том числе и конструктивных форм, не проникает в ее формообразующий код.
Следует считать недостаточным и анализ композиции только со стороны предметно-изобразительного содержания. Хотя в выборе предметов для данного сюжета уже содержится смысловая нить. Так, стоптанность сандалии, лежащей рядом с босыми ступнями блудного сына в картине Рембрандта, имеет образный смысл. Образный смысл обогащается и положением ступней на первом плане и тяжестью красочной пасты. Ступни и сандалия „останавливают взор». Зачем?
Предметно-изобразительное содержание, конечно, важнейший компонент картины как изобразительного искусства. Но содержание картины непременно включает и эмоциональное содержание. Иногда содержание становится символическим. Иногда картина становится иносказанием. За одним предметным содержанием в подтексте скрывается другое. Однако как бы ни было сложно содержание, оно непременно собрано в единый образ, связано единым смыслом, и эта связь находит свое выражение в композиции (в конструкции для смысла). К сожалению, в искусствоведческой литературе чаще всего встречаются анализы, озаглавленные словами „композиция» и ограниченные либо формальным анализом, не связанным с содержанием, либо анализом, соотнесенным лишь с предметно-изобразительным содержанием.
Характер композиционных средств зависит от характера содержания. В сложном единстве изобразительного, идейного, эмоционального, символического отдельные компоненты содержания могут быть главными, другие — второстепенными, могут, вообще говоря, и вовсе отсутствовать. Так, в лирическом пейзаже (например, „Золотая осень» Левитана) смешно искать символический подтекст, иносказание. Если же иносказание присутствует в пейзаже, то и тип композиции и композиционные связи будут иными. Вместе с тем потеряет силу лирическое звучание, эмоциональный тон в диапазоне созерцания, любования.
Если содержание — сложная картина столкновения людей в действии, то естественна развернутая в глубину мизансцена, и особого оправдания потребовало бы совершенно условное пространство. Если отсутствует или условна светотень, то непременно должна быть тенденция к плоскостности, в содержании — тяготение к символике. Если художник подчеркивает свет как средство, то неизбежна и реализация световой среды, взаимодействие глубинного пространства со светом. Типология композиции может быть построена на основе типологии содержания.
Очень яркие примеры ограниченности композиционных средств вследствие ущербности содержания демонстрирует нефигуративная живопись, претендующая иногда, судя по названиям, на некоторое содержание (экспрессивный абстракционизм).
Висящее в моей мастерской узбекское сюзане представляет собою регулярно расположенные на алом фоне условные изображения солнца. Эмоциональное действие сюзане очевидно, даже если не знать скрытой символики. Сюзане — радостно, светло. Но ему не нужен композиционный центр, ни данный формат, ни данное положение. Играют лишь цвет и узор. Так и в произведении нефигуративной живописи нет композиционного узла, потому что нет смыслового узла. В лучшем случае смысл отгадывается в авторском названии. В хорошо скомпонованной картине композиционный и смысловой центр (узел) легко находится независимо от авторского названия.
Он держит все связи. Опыты построения законов композиции на образцах геометрического варианта нефигуративной живописи (Малевич, Мондриан) сводят композиционность к правильности, регулярности, уравновешенности. Композиция же картины чаще всего неожиданна, не ищет равновесия элементарных форм, устанавливает новые правила в зависимости от новизны содержания. Совершенно регулярное расположение неизобразительных пятен — симметрическое, по законам ли золотого сечения, по законам ли некоторого ритма, или по законам цветовых контрастов, — представляет собою только решетку, только „обои». Связи между элементами могут быть здесь сколь угодно правильными, развернутой композиции они не создают, ибо лишь след, отблеск смысла, эмоции остаются от содержания. Это случай, когда форма, как „переход» содержания в форму, становится чистой формой, отрицая свою сущность „быть формой содержания». Это случай, когда конструктивные связи бессмысленны, когда конструкция нужна не для выражения смысла.
В абстрактной живописи теперь существует и культ полной бессвязности, типичной для непроизвольного заполнения плоскости пятнами, частями изображений, линиями — друг на друге, рядом, без всякой заботы о связях и даже о размещении на листе, случай бессвязности пятен и линий картины, подобный некоторым рисункам душевнобольных. Здесь могут быть и обрывки предметного содержания, но нет смысла. Это бред. Впрочем, бред может быть скрыто осмысленным.
Картина, как и другие произведения искусства, состоит из спаянных между собой различных компонентов формы. Одни из них работают на смысл, другие нейтральны. Одни компоненты формы активно строят композицию, другие, оставаясь обязательными компонентами структуры картины, „не работают» на смысл. Только те формы и их сочетания, которые работают на смысл в любых его существенных для смысла разрезах, должны быть учтены в анализе картины как композиционно значимые формы. Это главный тезис и основная позиция в предстоящем разговоре о композиции.
В самом деле, нужно ли говорить о цветовой композиции картины? Необходимо, если цветовой строй образно активен, если нельзя, например, ослабить светлое пятно без повреждения смысла, нельзя взять цвета более дробно без ущерба для смысла (выразительности), нужной акцентировки главного, если нельзя преобладание теплых заменить преобладанием холодных, смягчить или усилить контрасты без ущерба для смысла. Изменение активной формы тотчас же сказывается на смысловом резонаторе.
Но есть картины, в которых цвет присутствует лишь потому, что любое пятно, предмет, даже линия, план имеют цвет и наносятся краской. Цвет может быть лишен смысловой активности. Конечно, в таких картинах не использовано важное для живописи средство выражения, но они по-своему прекрасны и содержательны. Об авторах таких картин мы говорим — „не колористы». Искать цветовую композицию здесь бессмысленно. Единство цветов находится в пределах „непротиворечивости», чисто внешней сопоставленности, расцвечивающего сопровождения.
Линейно-плоскостное расположение групп — традиционный мотив искусствоведческого анализа композиции. Однако и линейные средства, и плоские геометрические фигуры, объединяющие группы персонажей, предметов, могут быть и композиционно важными и композиционно нейтральными, если объединяющая линия или контур плоской фигуры не очень ясен (активен). Любую картину можно расчертить геометрическими схемами. Всегда можно найти простые геометрические фигуры, в которые приблизительно вписываются отдельные группы. Еще легче найти объединяющие кривые, но существенны ли эти фигуры для общего смысла картины?
В „Празднике четок» Дюрера группа персонажей легко вписывается в круг. Но композиционно активен здесь треугольник, образованный главными персонажами. Фигуры справа и слева от Марии подчеркнуто симметричны и прямолинейны как стороны равнобедренного треугольника (идея величания).
В „Троице» Рублева приближение контура группы к кругу имеет и символический и эмоциональный смысл. Круг (овал) подчеркнут продолжением контура одной фигуры в контуре другой. Круг действует здесь композиционно. Он активен как носитель смысла.
В картинах с круглой рамой фигурная группа чаще всего подчиняется кругу как условию (Рафаэль, „Мадонна Альба», Микеланджело, „Святое семейство»). Впрочем, круг и здесь не безразличен к смыслу.
Плоскостные факторы становятся средствами композиции, если они работают на содержание, выделяя и собирая главное в содержании, направляя восприятие и вместе с тем обогащая смысл. Очень часто говорят о волнообразном (ритмическом) движении группы, рисуют плоские „композиционные» кривые, объединяющие фигуры, предметы. Но это можно сделать во всех случаях, и во многих случаях такая волновая линия будет композиционно нейтральной6.
Построение трехмерного пространства, перспектива и пластика, расположение предметов и фигур, жесты и движение — все это приобретает композиционное значение только в связи со смыслом произведения.
КОНТРАСТ И АНАЛОГИЯ
В конкретном произведении доминируют определенные факторы. Но есть два основных композиционных принципа, присущих любому отдельному композиционному фактору и выражающих коренную логику любого из них: аналогия и контраст. Аналогия и контраст в образах искусства — это выражение диалектики бытия и познания. Контраст образно выражает противоречие, но он тем самым устанавливает и прочную образную связь. Такой плоскостный фактор, как вертикаль, обязательно предполагает горизонтальную ось или горизонтальный край рамы. В наличии горизонтали заложена и внутренняя необходимость вертикали. Чтобы быть вертикалью, линия предполагает горизонталь. Ясно выделяющаяся на плоскости картины фигура обязательно вызывает явление фона, окружающую фоновость. Фон необходим для того, чтобы фигура стала фигурой, выделилась. Крупный масштаб фигуры предполагает в картине сопоставление с контрастным масштабом, он в себе самом содержит требование масштабного сравнения. Контраст глубины и плоскостности, контраст светлого и темного, хроматического и ахроматического, разрыва и непрерывности, сюжетный контраст наступающей и отступающей толпы, статика и динамика, контраст завершенного времени и незавершенного: во всем контраст. И есть большая правда в утверждении, что контраст — основной закон композиции. Аналогия-другая форма универсальной связи, распространяющаяся на любые факторы композиции от плоскостных факторов (линейные и цветовые вариации единой „темы» и т. п.) до сюжетных. Вертикализм форм у Эль Греко — это проявление объединяющей функции аналогии. Особым образом обобщенная пластика фигур у Джотто — это аналогии между ними. Аналогия движения и поз — иногда вариативная, иногда переходящая в простой повтор — в фигурах, в формах деревьев и скал, архитектуры — у него же. Аналогия вихревых линий и округлых форм у Рубенса.
Иносказательные формы чаще всего покоятся на аналогиях.
Аналогия и контраст поддерживают друг друга. Развитые аналогии усиливают контрасты. А в развитой системе контрастов мощным контрастом выступает аналогия.
О содержательных связях, заключенных в контрасте и аналогии, нет возможности говорить „вообще». В конкретных композициях они несут разные стороны содержания — сюжетные, эмоциональные, символические, общую диалектику жизни и ее художественного познания.
Ниже читатель не раз встретится с законами контраста и аналогии. Естественно может возникнуть вопрос, почему столь важным общим формам композиции в моей работе не посвящено отдельных глав. Это вопрос порядка изложения. Как видно из оглавления, мое изложение строится по схеме выделения отдельных композиционных задач (плоскостные факторы композиции и их значение, построение пространства, время как задача композиции, сюжетные формы композиции). В главе о контрасте и аналогии, в силу универсальности этих форм, пришлось бы снова говорить о всех четырех разобранных ниже задачах композиции.
Построение изображения на плоскости картины
То, что картина есть „прежде всего» заполненная следами кисти художника плоскость — очевидно, и усиленно подчеркивается со времени известного высказывания Дени. Существен, однако, не только этот элементарный факт, а тот факт, что следы кисти на плоскости картины создают изображение, которое преобразует для восприятия плоскость в трехмерное пространство, в мир предметов и человеческих отношений. Обрывки, но только обрывки, этой второй и главной для картины действительности остаются даже в абстрактном произведении. Такова природа нашего восприятия, вносящего благодаря изобразительному опыту пространственную, гравитационную и иную неоднородность в любой ограниченный рамой кусок плоскости1.
Но картина все же есть плоское поле. И движение глаз зрителя, обеспечивающее полноту восприятия, есть движение глаз по плоскому фронтальному полю. Повороты глаз и головы и изменение конвергенции глаз связаны с фиксациями точек плоского поля, с его обзором. Никакая иллюзорность не может преодолеть этот факт. Нельзя сказать, что в иллюзорном изображении мы не видим плоскость картины, следует сказать, что благодаря тому, что мы ее видим, но видим и лежащее на ней изображение, мы способны изумляться ловкой иллюзорности изображения. В самом слове „иллюзорность» есть отрицание тождества действительности и изображения -„обман». С вопросов построения изображения на плоскости и следует начинать анализ факторов композиции.
Понятно, что говоря о композиции картины или графического листа, искусствоведы обычно имеют в виду построение изображения на плоскости в пределах выбранной или заданной „рамы». Когда говорят, что композиционной схемой „Троицы» Рублева служит круг, что композиция этой иконы подчинена кругу, или, по другому поводу, говорят о фризовом расположении фигур, имеют в виду построение изображения на плоскости. Конечно, это относится не только к тем типам изображения, где трехмерное пространство выражено „условно», „как бы спрессованно», или не выражено вообще, но также к изображениям, где построено глубокое пространство. Говорят о композиции группы фигур по классическому принципу треугольника (например, в связи с луврской картиной „Св. Анна, Мария и младенец», приписываемой Леонардо). Говорят о центрической и децентрализованной композиции, о диагональной композиции, говорят о кругообразной композиции. Во всех этих случаях, очевидно, имеют в виду построение изображения на плоскости картины, его отношение к формату и к границам „рамы». Тот же ход мысли ясен в схемах, сопровождающих искусствоведческий анализ композиции. Разумеется, и сами вопросы формата входят в ту же группу вопросов (вертикальный формат, квадрат, круг и т.п.).
Понимание композиции как распределения изображения на плоскости встречается обычно и в размышлениях художников. Вспомним хотя бы приведенное выше понимание композиции К.Ф. Юоном. Компонуя, художник прежде всего расчерчивает плоскость.
Заметим уже здесь, что многие приведенные выше характеристики композиции как построения на плоскости связаны с сюжетом и смыслом картины, с ясностью их выражения. Однако, может быть, уже до того, как мы постигли смысл или даже только узнали сюжет картины, в ней, как покрытом следами кисти художника плоском поле, предопределен ход восприятия, путь к смыслу? Плоскостная композиция, не она ли направляет движение глаз, заставляет фиксировать особо выделенные (положением, цветом) части изображения, повторять цезуры ритма в остановках глаза, фиксировать ось симметрии и снова читать от нее, позволяет легко охватывать взором пятна и линии, связанные в простые геометрические фигуры? Такая постановка вопроса кажется естественной. Плоскостная композиция строит поле картины для лучшего прочтения ее.
Восприятие картины часто называют „прочтением» и видят в этом больше, чем метафору, — прямую связь с чтением словесного текста.
В науке об искусстве, так же как и в некоторых других гуманитарных науках, встречаются попытки открыть тайны своего предмета посредством чужого ключа. Так некоторые „законы» композиции картины в 20-е годы выводили из привычки глаза двигаться слева направо при чтении словесного текста. Считали, что эта теория объясняет загадочный эффект зеркального отображения картины. Не так ли мы читаем картину, как читаем текст, то есть слева направо? И не отразились ли эти привычные движения глаз по плоскости на распределении фигур и предметов в картине и, в частности, на изображении движения? Не потому ли движение, изображенное на картине, будет легким, быстрым, свободным, если предмет движется по плоскости картины слева направо, то есть по направлению привычного чтению словесного текста, и затрудненным, замедленным, если справа налево.
М. Алпатов, вслед за В. Никольским, утверждал, что затрудненное движение саней сквозь толпу на картине Сурикова „Боярыня Морозова» сменяется быстрым, легким на зеркальном отображении картины, где оно происходит слева направо. М.Алпатов, так же как в свое время Г.Вёльфлин, обративший внимание на эффект зеркального отображения картины, воздерживается от его объяснения в своей книге.
Согласно теории, связывающей восприятие картины с привычкой чтения словесного текста, не конструктивные факторы композиции организуют восприятие, а привычное движение глаз в совсем другой деятельности. Даже с некоторой долей восторга обходят очевидную трудность, состоящую в том, что слева направо пишут не все народы мира. Что же, у восточных народов картины, как утверждают, „строятся» преимущественно справа налево, а у нас слева направо. Однако как раз картина „Боярыня Морозова» строится, сани и люди движутся и обращены в ней справа налево, а читаем мы текст, как европейцы, слева направо. Противоречие преодолевается утверждением, что движение саней кажется в картине Сурикова именно поэтому затрудненным (композиционный прием). Но ведь и по смыслу изображения сани движутся в плотной толпе. Интересно, как воспринимают их движение представители народов, привыкшие к право-левому чтению?2.
Движения глаз зрителя картины подчинены задаче ее рассматривания, а не привычкам чтения словесного текста. Рассматривание картины как специфического явления человеческой культуры есть процесс приобретения чувственных (цветовых, линейных и проч.), пространственных, сюжетно-смысловых и эмоциональных данных -процесс также специфический.
Мы видим картину прежде всего и затем все время как целое, сжатое границами рамы. Какова же специфика ее восприятия? Похожа ли она на чтение словесного текста? Допустим, что мы видим картину впервые. От чего оттолкнется, с чего начнет глаз свой анализ? Будет ли это движение слева направо, или круговой обход, или система соотнесения? Обратимся прежде всего к опросу зрителей, начнем с отчетов по данным самонаблюдения.
Перед зрителем — картина Репина „Не ждали». Мы не знаем прошлого опыта зрителя. В отчетах самонаблюдения часто излагается такой ход восприятия этой картины, вызванный, может быть, акцентами и распределением фигур на плоскости, а может быть, и рассказами о картине. Ведь встречается он и в искусствоведческих анализах ее. Прежде всего, говорят, останавливает взор фигура матери, первопланный, крупный и сильный силуэт. Затем следует (направленный ее наклоном?) перенос взора на ссыльного, замечание по соседству горничной на дальнем плане, затем — жены у рояля и детей и, наконец, — замыкание кругового обхода в фигуре матери.
Но, может быть, пятна фигур и предметов, их распределение на плоскости заставляют совершать другой обзор? В отчетах самонаблюдений бывает и так, что зрителя привлекает прежде всего фигура ссыльного, выделенная свободным и светлым полем. Затем взор переходит к фигуре матери (слева направо) как самому крупному и интенсивному пятну. Затем, двигаясь далее направо вверх, переходит на фигуры детей, отталкиваясь от рамы, замечает фигуру жены, горничной и снова возвращается к главному герою, совершая обход в противоположном направлении. Как же на самом деле? Если не знать заранее смысла картины, оба варианта обхода кажутся вполне закономерными. А может быть, между „обходом» глаза и восприятием картины вовсе нет однозначной связи и сам „обход» — иллюзия самонаблюдения? Как это узнать?3
Глаза наши все время движутся, осуществляя произвольную или непроизвольную зрительную ориентировку. Движутся ли объекты или неподвижны, изображения на сетчатках глаз все время меняются. Существенно, что постоянные изменения сетчаточного изображения необходимы не только для зрительной ориентировки и подробного рассматривания объектов, они необходимы для самого акта зрения. Необходимо, чтобы сетчаточное изображение посылало в центральную часть зрительного анализатора постоянно меняющиеся сигналы.
Существенно и то, что мы не замечаем постоянных изменений сетчаточного изображения. Мы видим (в соответствии с действительностью) благодаря особому характеру зрительного синтеза, что неподвижные предметы неподвижны, движущиеся движутся, и нам кажется, что глаза совершают лишь чередующиеся с длительными фиксациями плавные обходы, по некоторой независимой от их движения совокупности объектов.
Существуют по крайней мере четыре типа движения глаз. Крупные скачки глаз с относительно длительными фиксациями, мелкие скачки, дрейф глаз и тремор.
В поле зрения всегда находится много объектов; в одних мы заинтересованы меньше, в других — больше. Мелкие скачки глаз необходимы как минимум движений для самого акта зрения, большие скачки глаза в пределах важного для нас объекта необходимы, чтобы изучать его, перемещая зону ясного зрения. Периферическое зрение необходимо для ориентировки и выбора новых точек фиксации. Наконец, движение головы и тела — для расширения обзора, для более широкой ориентировки.
Плавные обходы контура — обман самонаблюдения. Длительные остановки глаза — тоже. Реальные возвраты глаза мы не можем заметить, так они быстры. Картина движений глаза по некоторой композиции воссоздается нами позднее как воображаемый, как композиционно выраженный, а не реальный путь.
Если зритель охватывает картину целиком или, в случае больших размеров и малого отхода, способен воспринять ее целостно благодаря непосредственной зрительной памяти, мы можем с равным правом сказать, что зритель созерцает картину как целое, а движение глаз несет лишь вспомогательную службу.
Что охват целого очень важен, очевидно. И композиционные формы строятся в расчете на целостный охват. Фиксация же отдельных точек картины и скачкообразные перемещения глаза по ней — это добывание дополнительных данных самого разного характера в соответствии с ходом и глубиной восприятия (движение, сюжет, жест, смысл жеста и пр.).
Во всяком случае, обе приведенные выше схемы плавного обхода глазом картины Репина „Не ждали», связанные, казалось бы, только с плоскостными факторами картины, одинаково произвольны. Это воображаемые или внушенные схемы движений глаза, типичный обман самонаблюдения, подменяющий реальный процесс композиционным анализом картины.
Недавно движения глаз при восприятии картины „Не ждали» изучались объективными методами. Результаты изложены в книге А.Ярбуса „Роль движений глаз в процессе зрения». Зрители знали картину. Предъявлялась ее цветная репродукция. Все зрители рассматривали репродукцию сходным образом. Рассматривание начиналось с фиксаций взора на лице и фигуре ссыльного. Тут располагалось несколько следовавших друг за другом точек фиксации, разделенных „большими» скачками глаза. Взор перескакивал на верхнюю часть фигуры старой женщины (матери), вставшей навстречу ссыльному. Несколько точек фиксации распределяется здесь, глаз рассматривает эту фигуру первого плана, чтобы снова вернуться к лицу ссыльного, перескакивает с одной фигуры на другую, останавливаясь главным образом на лицах, добывая все более глубокую информацию для понимания отношений между главными героями (сюжетно-психологический аспект). Иногда перескок взора на фигуру матери предваряется однократной фиксацией лица и фигуры горничной, открывшей дверь. Фиксацией явно по признаку соседства на плоскости головы ссыльного и головы горничной. Установив связь между двумя главными персонажами, взор перескакивает на фигуры детей, сидящих за столом, в первую очередь — мальчика. Глаз „изучает их», но лишь небольшим числом фиксаций и снова перескакивает на фигуру ссыльного (устанавливает новые отношения). Наконец, фиксируется голова жены за роялем, и снова скачкообразный возврат к голове ссыльного. Весь цикл длится всего около минуты. Затем цикл повторяется по той же схеме. Заметить смену фиксаций в самонаблюдении невозможно.
Существенно, что фиксировались только фигуры и особенно часто -лица персонажей, обстановка не рассматривалась, хотя, разумеется, вся репродукция все время была в поле зрения, иначе говоря, направление перескоков взора было закономерным, от персонажа к персонажу, минуя все обстановочные детали. Детали обстановки фиксировались лишь в опытах со специальной инструкцией.
Конечно, такой ход восприятия в значительной степени определялся тем, что картина была известна и известно было ее название „Не ждали». Кого не ждали?
Важно и то, что глаз вообще не совершал плавного обхода по некоторой кривой, не двигался плавно ни слева направо, ни справа налево, ни по кругу. Движения глаза определялись построением сюжета, выраженного уже в названии, психологической ситуацией.
Глаз, очевидно, доставлял данные для уяснения внутренних связей между персонажами. Все связи сходятся в композиционном узле — фигуре ссыльного. Все взоры участников сцены обращены к нему. Сюжетно-смысловые связи, а не плоскостные факторы, цветовые или линейные, сделали в этом эксперименте фигуру ссыльного композиционным центром, заставляли многократно возвращаться к ней.
Если говорить о схеме, то композиция ближе всего может быть изображена посредством стрел или лучей разной повторности, направленных к композиционному центру и от него. Но главный вывод, конечно, в том, что и композицию и движение глаз определяет смысл картины. Интересно сопоставить движение глаз по картине „Не ждали» с хорошим искусствоведческим анализом композиции этой картины, свободным от предвзятых теорий о работе глаза.
Ясный и убедительный анализ такого рода дан в книге Д.Сарабьянова „Народно-освободительные идеи русской живописи второй половины XIX века». Утверждая, что композиция картины исчерпывающим образом вскрывает логику момента, Сарабьянов выделяет как главную линию в сюжете линию — ссыльный и старуха-мать. Главные фигуры композиционно выделены. Другие сюжетные связи менее значительны. На втором месте по значению — восторг мальчика. Жена ссыльного только начинает осмысливать случившееся. Горничная — просто любопытный свидетель. По значению связей выбрано и композиционное место и движения персонажей.
Главная сюжетная линия картины „… подчеркивается композиционной диагональю и все другие психологические линии картины также подкреплены композиционно, и на перекрестке этих линий оказывается фигура главного героя.
Она становится узлом, связывающим всех участников сцены. Поэтому мы вправе сказать, что композиционное построение обусловлено психологической жизнью героев, драматической коллизией, самим событием, логику которого выявляет композиция».
Рассматривая дрейфограммы глаз, приведенные Ярбусом, я не помнил этого анализа. Совпадение его с общей схемой дрейфограмм кажется мне знаменательным как утверждение важного теоретического положения. Понимание смысла картины и логики композиции может давать обобщенную информацию об „интегральных» движениях глаз, не о фактических частых сменах точек фиксации, скачках, возвратах, а о некотором обобщенном ходе восприятия картины. Воображаемые „интегральные» движения глаз воспроизводят основу композиции — ее внутренние связи. Это — ходы понимания.
Итак, во-первых, не реальные движения глаз, в частности, не движения глаз, привычные для чтения словесного текста, определяют композицию, а, напротив, композиция определяет интегральные „движения», „ходы» восприятия — ходы понимания.
Во-вторых, поскольку по крайней мере элементарные сюжетные связи мы видим вместе с факторами плоскостной композиции, следует говорить об укреплении сюжетно-смысловых связей посредством расположения пятен и линий на плоскости, об их конструктивной роли. Могут ли эти последние сами по себе в бессюжетных и беспредметных „картинах» однозначно или почти однозначно определять ход восприятия, остается сомнительным.
Несколько слов о зонах внимания.
Зона внимания не совпадает, вообще говоря, с фиксируемым объектом. Зона внимания может быть связана с периферическим зрением. И часто именно сигнал с периферии, отвечающий ходу мысли или эмоциональному импульсу, вызывает новое движение глаз (смену точек фиксации) для получения более полной информации, причем, в поле внимания все время остаются связи между объектами (сюжетные, а вместе и смысловые, эмоциональные связи), а не только сами объекты и их части.
Субъективно мы путаем движения глаз и перемещение центров внимания и не замечаем, что как за перемещением центров внимания, так и за движением глаз скрываются более глубокие „смысловые» ходы (опыт понимания).
НЕОДНОРОДНОСТЬ КАРТИННОГО ПОЛЯ И ЕГО ОРГАНИЗАЦИЯ
Перед нами однородное плоское поле загрунтованного холста или лист однотонной бумаги. Изображение разрушает эту однородность. Вокруг первой проведенной линии возникают два поля, и они, вследствие ли изобразительного опыта или более общего зрительного опыта, несут в себе указания на различие, создают возможность изобразительного понимания. Так, проведенную в некоторой средней зоне горизонталь мы легко читаем как границу между „небом» и „землей», особенно если она проходит через все плоское поле. Стоит ограничить горизонталь и провести от ее концов вниз вертикали, и внутреннее поле становится плотной и вертикально стоящей „стеной» или „воротами», а внешнее — окружающим ее „воздухом». Горизонтальная линия приобретает новое изобразительное значение.
Любое беспорядочное заполнение плоскости холста создает хаос неоднородностей, в которых неизбежно мелькают куски и ходы изображения, фигуры и фон, уходы в глубину и устои, „наросты» и „дыры» (многоплановость). Так устроено наше восприятие изобразительного поля.
Вспомним пятна на сырой штукатурке, рисунок на срезе камня. В творческой практике нередки случаи предварительного создания на холсте произвольной неоднородности для последующего использования ее в композиции. Константин Коровин любил работать на слегка забеленных сверху старых холстах (по забеленной живописи).
Но в этом, конечно, нет необходимости. Само поле однородно загрунтованного холста однородно лишь как материальное поле. Как изобразительное поле оно представляет собой неоднородную структуру, содержит скрытые неоднородности, предвосхищение (антиципацию) глубины, проницаемости, цвета, устойчивости, с которыми художник вынужден считаться прежде всего для того, чтобы их использовать, выявить в интересах картины, или, если они мешают задуманному изображению, найти средства противодействований им.
С чем же связана скрытая неоднородность ровно загрунтованного поля картины?
Плоское поле картины в отличие от зрительного поля — правильно ограничено рамой6. В зрительное поле входит и поле картины и окружающие предметы (рама, стена). Границы изобразительного поля я называю условно „рамой», имея в виду, однако, что рама как приспособление для лучшей подачи картины находится за пределами поля картины и нас не интересует. Рама понимается ниже как ограничение картинного поля.
Итак, какие неоднородности поля картины связаны с фактом „рамы»? Если следовать распространенному сейчас на Западе толкованию реалистического искусства Европы, сформировавшегося в эпоху Возрождения, на этот вопрос следует ответить: ровно никаких. Ведь реалистическая картина понималась и понимается как „окно в действительный мир», „вырезка», подобие кадра в фотографии. Поле будущей картины мыслилось будто бы как часть однородного, бесконечного пространства, в которую попадают посредством видоискателя „случайные группы предметов». Поразительно, как эта нелепая позиция сохраняется до сих пор. Указания на границы картинного поля или, говоря языком семиотики, знаки границы содержатся внутри любой композиции, независимо от стилевых различий.
Я не представляю себе, что можно было бы срезать вертикальную полосу слева или справа в „Блудном сыне» Рембрандта без ущерба для смысла картины или, скажем, пришить полосу пола. Вспомним, что в окончательном варианте „Боярыни Морозовой» Суриков подшил полосу холста снизу и именно такой, а не другой ширины, явно в целях улучшения композиции. Границы картины твердо устанавливаются художником как поле множества связанных в один узел композиционных факторов. Или попробуйте наложить другое „окно» на „Явление Мессии» А. Иванова. Нелепость! Типичное для наших дней забвение того факта, что даже самая „иллюзорная» картина, если это искусство, есть изображение, исчерпывающееся, завершенное в „раме». Подготовленность „рамы» в изображении — общий закон композиции. „Окно в мир» — метафора, обозначающая задачу построения глубокого пространства в границах картины в противоположность традициям плоского или уплощенного (слоевого) изображения. И тут и там рама (граница) тесно связана с композицией самого изображения.
Нарисуем „раму» (края картинного поля) некоторой будущей композиции, оставив поле чистым, и будем перемещать изображение предмета или просто отрезок прямой внутри рамы. Мы увидим, что восприятие перемещающегося предмета или отрезка может стать хорошим индикатором неоднородностей изобразительного поля, вызываемых рамой7. Предмет, изображенный на однородном поле близко к раме, вследствие привычной антиципации глубины картины, вызванной наличием рамы, читается лежащим близко к плоскости рамы или даже частично слитым с ней. Предмет во внутренней и особенно центральной зоне читается лежащим в глубине. Плоское ровное поле благодаря наличию рамы становится пространством, своеобразной „пещерой», конечно, перспективно и метрически еще совершенно неопределенной.
Многие центральные композиции используют антиципацию углубленного поля, выявляя и подчеркивая углубление построением сцены в глубину от рамы.
В „Поклонении волхвов» Боттичелли (Уффици) левая и правая группы построены как плотные крылья, ведущие в глубину к центральной группе. Ту же конструктивную функцию выполняют пол и крыша строения над центральной группой. Крылья укреплены у рамы, как кариатидами, вертикальными фигурами: автопортретной фигурой Боттичелли справа, и фигурой слева, стоящей в той же фронтальной плоскости, непосредственно примыкающей к „плоскости рамы». Композиция указывает на границы поля картины, и рама естественно становится началом и концом изображения.
Но в силу диалектики творчества, художник может, следуя смыслу образа, вступить в сознательный конфликт с углубленностью поля it центральной зоне. Тогда „закон глубины» будет действовать скрыто, как основа контраста.
В „Св. Себастьяне» Антонелло да Мессины (Дрезден) создано глубокое архитектурное пространство, подчеркнутое сильными ракурсами. Перспективные сокращения кажутся даже преувеличенными благодаря низкому горизонту. И как раз посередине, пересекая весь кадр, возвышается фигура Себастьяна, выдвинутая вперед к самому краю рамы, так что ступни почти касаются нижней границы картины, а голова — верхней. Острый контраст фигуры и архитектурного окружения делает фигуру казнимого одинокой (сравни стаффажные фигуры). Тем самым утверждается ее величие. Фигура выделяется и мощной пластикой и ясной линией контура. Она грандиозна. В картине Боттичелли — ход в глубину к центру картины. Здесь — упор в центре, останавливающий внимание на героической теме, и два дополнительных хода от рамы, в обход фигуры, содержащих дополнительные рассказы бытового характера. Можно напомнить аналогичное построение „Св. Себастьяна» Мантеньи (Вена), очевидно, этого требовала логика темы.
В русской иконописи, несмотря на относительную плоскостность, по-своему действовал тот же „закон рамы». В „Троице» Рублева боковые фигуры и подножия тронов — в „зоне рамы», от них ходы идут в глубину к центральной фигуре, через композиционный узел — жертвенную чашу и „беседу рук». Икона завершается подобием свода: дом Авраама, мамврийский дуб, гора не только подчинены плоскостной схеме овала (круга), но и замыкают пространство указанием на возврат к передней плоскости8.
Скрытая неоднородность изобразительного поля, вызванная рамой, ставит важные для композиции вопросы пересечения фигур и предметов рамой.
Пересечение дальних и второстепенных предметов (пейзаж в фигурной композиции) композиционно нейтрально и не требует смыслового оправдания. Пересечение же предметов переднего плана и особенно — нижним краем картины, пересечение активно вылепленных или броских по цвету предметов должно быть оправдано как специальный знак осмысленного нарушения равновесия, подобно тому как оно оправдано в „Давиде и Урии» Рембрандта (Гос. Эрмитаж). Впрочем, пересечение фигур и предметов становится сейчас привычным для нас, менее активным благодаря влиянию кино и фотографического кадрирования.
Возьмем снова однородное плоское поле, ограниченное рамой. Не изображены ни небо, ни земля. Однако предмет, изображенный в верхней зоне поля, кажется падающим, а в нижней — лежащим на горизонтальной плоскости. Как будто бы в нижней зоне предвидится земля, пол. В очень многих картинах низ строился как своеобразный тяжелый подиум, на котором высится фигурная группа. И даже в иконе, если нет изобразительного низа, всегда проводится скорее знаковая, чем изобразительная, узкая полоса позема. При всей перспективной неустойчивости изображения ступней фигур и впечатлении легкости, созданном остроконечными складками нижнего края одежд (явление также гравитационного порядка: треугольник основанием книзу кажется лежащим на некоторой плоской опоре, острием книзу — неустойчивым, парящим), иконописец считает нужным обозначить позем.
Поучителен со стороны действия неоднородности верха и низа картины анализ как средневековых, так и возрожденческих изображений Страшного суда и таких изумительных композиций, как, ,Битва архангела Михаила с сатаной» Тинторетто (Дрезден, Картинная галерея).
Тяжелый низ и легкий верх — это только предрасположение восприятия, или, если хотите, — рефлекс на положение в раме картины. Острота композиции часто может быть именно в том, что другие конструктивные факторы, активно выделенные художником, вступают с ним в борьбу ради смысла.
С утяжелением низа картинного поля и легкостью его верха связана неоднородность направлений на нем. Вертикальные и близкие к ним направления воспринимаются как определяющие фронтальную плоскость. Вертикальный отрезок прямой очень трудно увидеть как уходящий одним концом в глубину. То же самое справедливо для горизонтального отрезка. Напротив, наклонные отрезки легко воспринимаются пространственно и, с точки зрения теории восприятия, относятся к классу многозначных изображений. Они читаются либо уходящими в глубину одним концом, либо другим, либо лежащими на фронтальной плоскости. Пространственное восприятие такого отрезка может колебаться. Чтобы сделать его устойчивым, надо ввести его в конструктивную систему. Конструктивная устойчивость и ее противопоставление неустойчивости, преобладание того или другого — это постоянная игра вертикалей, горизонталей и наклонных.
Архитектонически ясный Джотто всюду подчеркивает вертикали и опорные горизонтали. У него все твердо стоит на земле, определяя, чаще всего, ближнюю фронтальную плоскость как план главного действия. В росписи базилики св. Франциска в Ассизи у Джотто или художника его круга даже престолы в „Видении св. престолов» стоят на небесной тверди. Их подножия строго горизонтальны, боковые стенки — вертикальны. Тем сильнее действует по контрасту движение возносящегося по наклонной ангела.
Нетрудно вспомнить и картины другого времени, где в системе неустойчивых наклонных выразительно действует подчеркнутая контрастом вертикаль.
Привычное ограничение картины прямоугольной рамой — естественный результат стремления к устойчивому завершению. „Рама» определяет переднюю фронтальную плоскость, верх и низ. Изображение строится от рамы и завершается в ней. Горизонталь и вертикаль рамы перекликаются с горизонталями и вертикалями изображения или подчеркивают во взаимодействии с наклонными его характерную неустойчивость. Напротив, произвольное, неправильное ограничение не несет конструктивной функции. Такое ограничение действует как вырезка в занавесе.
И опять укажем на диалектику конструктивной формы и содержания. На некоторых полотнах Петрова-Водкина фигуры поставлены наклонно относительно рамы. Художник связывал такое построение со своей планетарной перспективной системой. Несомненно, однако, -принимаем ли мы или не принимаем теорию перспективы Петрова-Водкина, — что противоречие вертикали и горизонтали рамы с наклонными предметами и фигурами порождает образный смысл. Он явно виден, например, в картине „Первые шаги» из Русского музея. Женщина переднего плана, изображенная наклонно, явно зовет ребенка идти за ней. Неустойчивый наклон усиливает впечатление движения. Тот же прием с расчетом на естественную жизненность взгляда виден и во многих натюрмортах художника. Если бы рама не была прямоугольной и ориентированной на горизонталь, не было бы и наклонного расположения предметов, произвольное ограничение читалось бы по конструкции предметного содержания и мы естественно повертывали бы холст, ориентируя его по вертикали и горизонтали предметов.
Необходимо подчеркнуть, что конструктивная функция рамы, о которой речь, вовсе не признак определенного стиля (например, возрожденческого реализма). Прямоугольная рама — также закон русской иконы, средневековой живописи Запада. Как раз в иконе вертикаль и горизонталь создают острые контрасты символического характера (сравним „Успение» Феофана Грека — горизонталь тела богоматери и вертикаль фигуры Христа, держащего ее душу, как бы продолжающая вертикаль свечи на переднем плане).
Практика выработала еще два типа „рамы»: круг и овал. Овал строится по ясно выраженным взаимно перпендикулярным осям, то есть и в нем вертикаль, горизонталь, верх и низ являются основными конструктивными факторами изображения. Композиция в круге определяет гравитационное поле рамы и его основные оси самим изображением.
Неоднородность картинного поля, в котором затем размещается (а иногда и „затискивается») изображение, скрыто определяет восприятие и создает подпочву для композиционного решения, с которой само изображение ведет постоянную игру, подчеркивая, выявляя ее или противоборствуя с ней.
Совсем не очевидна скрытая неоднородность левого и правого, о чем говорилось выше.
С организацией плоского поля картины посредством рамы мастер вынужден считаться. „Рама» картинного поля служит „сигналом», вызывающим прошлый опыт картинного изображения. Это установочный рефлекс на специфическую ситуацию „картинное изображение». Художник противопоставляет ей реальную организацию картинного поля. Рама выступает здесь в своей конструктивной функции.
С фактом „рамы» связаны и другие, содержательные характеристики изображения. Если выделить условно в непрерывной вариации форматов квадрат, вертикально вытянутый прямугольник в пропорциях золотого сечения и соответственно — горизонтально вытянутый как условные границы зон, можно увидеть следующие общие для отдельных зон качества. Вытянутому вверх формату свойственна известная стройность, возвышенность, в противоположность приземленности. Так, в изображениях казни Себастьяна Себастьян чаще всего изображается во весь рост посередине узкого, вертикального холста. Идея гордого, одинокого (толкование сюжета) противостояния исключала возможность широкого формата для однофигурной композиции. (Ср. „Св. Себастьяна» Антонелло да Мессины, „Св. Себастьяна» Мантеньи, „Св. Себастьяна» Тициана.) Но и сам вертикальный формат подкрепляет своим символическим отзвуком характер образа — его причастность категории возвышенного.
Формату, вытянутому в ширину, свойственна „распахнутость». Это удобное поле для массового действия. Сильно вытянутый по горизонтали формат созвучен эпическому размаху „Боярыни Морозовой» и „Покорения Сибири Ермаком» Сурикова.
Форматы в зоне золотого сечения — самые уравновешенные и замкнутые. Это привычные портретные форматы, форматы типичных жанровых сцен.
Сильное удлинение горизонтального кадра постепенно уменьшает весомость центра композиции, ослабляя эффект замкнутости картинного поля. Формат через фазу „фризовой» композиции (вспомним „Чудеса св. Зиновия» Боттичелли, Дрезден), где в одной картине соединены четыре разновременных сцены (формат 66×182 — почти три квадрата) с четырьмя сюжетными центрами, переходит в архитектурный фриз.
Сильно вытянутый вертикальный формат превращает картину в свиток, который читается как свиток текста (Китай, манера гохуа) или заполнение пилона в архитектуре. Это — не картинные форматы.
Может быть, именно ясные символические и эмоциональные отзвуки характерных форматов мешают использовать такие слишком уравновешенные форматы, как точный квадрат и круг, если они не навязываются архитектурой.
ДРУГИЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ФАКТОРЫ КОМПОЗИЦИИ НА ПЛОСКОСТИ
Организация поля картины в интересах образа решает следующие конструктивные задачи:
- Выделение композиционного узла так, чтобы обеспечивалось
привлечение внимания и постоянное возвращение к нему. - Расчленение поля такое, чтобы важные части отделялись друг от
друга, заставляя видеть сложность целого. - Сохранение целостности поля (и образа), обеспечение постоянного связывания частей с главной частью (композиционным узлом).
Организация картинного поля — первая конструктивная основа композиции. Распределяя сюжет на плоскости, художник прокладывает первые пути к смыслу.
Композиционным узлом картины мы называем главную часть картины, связывающую по смыслу все другие части. Это главное действие, главные предметы (в натюрморте), цель главного пространственного хода или собирающее цветовой строй главное пятно в пейзаже. Если образно представить себе картину как поле сил, это источник распространяющейся до контура рамы энергии.
Положение композиционного узла в кадре в связи с функцией рамы само по себе может стать причиной его выделения. Конечно, не случайно положение композиционного узла в центре картины и в русской иконе, и в композициях раннего итальянского Ренессанса, и в позднем Ренессансе, и в Ренессансе Северном и дальше. Так как картина при любом способе изображения пространства строится внутри рамы (слоями, кулисами или ракурсами, по законам центральной перспективы или иначе), совпадение центральной зоны с первой и основной зоной внимания совершенно естественно. Отталкиваясь от рамы, мы стремимся охватить прежде всего центральную зону. В этом — конструктивная простота центральных композиций. Центральные композиции в силу тех же причин почти всегда — композиции приближенно симметрические относительно вертикальной оси. Таковы, например, различные варианты ветхозаветной „Троицы» в русской и западной иконописи. Таковы многие варианты „Тайной вечери», в частности, в живописи итальянского Ренессанса. (Какой необычайной должна была казаться несимметричная композиция „Тайной вечери» Тинторетто, церковь Сан Тровазо.) Таковы многие варианты „Поклонений».
Массивными крыльями толпы, более редкой к центру и более тесной у рамы (даже „затиснутой» в раму у ее края), композиция „Поклонения волхвов» Боттичелли (Уффици) ведет к центральной группе слева и справа. В центре — максимум изобразительного наполнения. Аналогично у Дюрера в „Празднике четок».
Но центр композиции не всегда изобразительно заполнен. Центр может оставаться пустым, быть главной цезурой в ритмическом движении групп слева и справа. Незаполненность центра останавливает внимание и требует осмысления. Это композиционный знак смысловой загадки. Так решались многие конфликтные сюжеты. Например, варианты сцены „Франциск отрекается от отца» у Джотто и художников его круга.
Между плотным левым крылом толпы, устремленным вправо с фигурой отца впереди, и правым крылом толпы, устремленным влево и завершенным фигурой Франциска, снявшего с себя богатые одежды, — разрыв, пустота (фреска в Ассизи).
У Джотто в капелле Барди (Санта Кроче) — тот же разрыв толпы, цезура в ней, но за фигурами в центре — массивное здание. Здание стоит углом вперед, угол приходится как раз на фигуру Франциска и тем дополнительно подчеркивает и главного героя и разрыв, правая стена уходит в глубину направо, левая — налево. Левая группа динамична, как сдержанная пружина, готовая распрямиться. Правая спокойна — знак внутренней силы. Это — центральные композиции с цезурой в центре и сдержанным движением к нему. Композиционный узел завязан здесь между главными фигурами.
Легко подобрать образцы центральных композиций с движением от центра, композиций центробежных. Они строятся и читаются от центра, с постоянным сопоставлением правого и левого крыла — по логике композиции.
Центр кадра — естественная зона для размещения главного предмета, действия. Но композиционная диалектика подсказывает и выразительность нарушений этого естественного композиционного хода. Если смысл действия или символика требуют смещения композиционного узла за пределы центральной зоны, то главное должно быть выделено другими средствами. В „Блудном сыне» Рембрандта главные фигуры сильно смещены влево, но они выделены светом и мощной цветовой пластикой. В картине Репина „Не ждали» смещенная влево фигура ссыльного окружена свободным полем, отделена от полукруга, располагающегося справа от него, но обращенного к нему (кольцо фигур здесь разомкнуто). Во фреске Джотто „Воскресение» (Капелла дель Арена, Падуя) фигура уходящего, воскресшего Христа помещена у самого правого края рамы. Этого, конечно, требовал смысл композиции — „исчезновение» (Noli me tangere). Выделенная белыми одеждами и белой хоругвью, развевающейся высоко над его фигурой, и дополнительно выделенная цезурой между ним и женщиной, стоящей на коленях и протянувшей к нему руки, фигура Христа остается композиционным узлом.
Невозможно создать вполне безразличную, вовсе неупорядоченную мозаику пятен и линий.
В любой беспорядочной мозаике пятен помимо нашей воли восприятие всегда находит некоторую упорядоченность. Мы непроизвольно группируем пятна, и границы этих групп чаще всего образуют простые геометрические формы, или простые плоские фигуры, напоминающие природные формы. В этом сказывается первоначальная обобщенность зрительного опыта, своеобразная геометризация его. Психологи в связи с этим прочно установленным явлением говорят о законе „хорошей формы»9.
В искусствоведческих анализах композиции и в композиционных схемах мы постоянно встречаемся с принципом выделения главного, объединенного посредством простой геометрической фигуры. Действительно, стоит только немного подтолкнуть в произвольной мозаике пятен контур такой простой фигуры, как треугольник, и треугольная группа пятен сразу выступит, выделится. Все остальное по отношению к ней станет тогда более безразличным полем -фоном.
Классический композиционный треугольник или круг выполняют одновременно две конструктивные функции — выделение главного и объединение.
Несомненно, и эти классические и другие геометрические фигуры способны нести кроме того собственную символику и настроенность.
Объединение в кругообразную систему — один смысл, в схему правильного треугольника — другой.
В анализах композиции мы чаще всего встречаемся именно с этими двумя геометрическими фигурами и с непременным желанием искусствоведов найти либо одну, либо другую. Между тем геометрических схем объединения и расчленения, конечно, много больше, и стремление обязательно найти одну из этих двух схем легко приводит к выделению ложных фигур, не оправданных содержанием картины.
Итак, мы легко выделяем в восприятии все, что приближено к простой геометрической фигуре. Однако конкретная, данная фигура объединения не лишается при этом своей образной индивидуальности. Многое можно вписать в круг, не трудно найти в компоновке фигур на картине точный круг. Мы сталкиваемся чаще всего с фигурой, близкой к кругу. И это опять свойство нашего восприятия обобщать неточную форму до „хорошей формы».
Так убеждение, что композиция „Троицы» Рублева подчинена кругу, не совсем точно. Группа ангелов вписывается в близкий к кругу, но все же вертикальный овал, что отвечает и формату иконы. Поэтому помимо традиционной символики круга как завершенности, совершенства в иконе налицо чувство „возвышенности событий» и сюжетно-смысловая необходимость доминирования (приподнятости) средней фигуры как главной (конструктивная функция). Круг (овал) здесь сложная по своей функции форма — и символ, и носитель эмоционального тона, и стимул выделения главной фигуры.
В „Празднике четок» Дюрера, несмотря на пестрое и тесное переплетение фигур в нарядных одеждах, легко выделить равнобедренный треугольник, лежащий основанием на нижнем крае картины. Треугольник объединяет главные фигуры, изображая сюжет поклонения и выражая идею картины. Но построение главного действия не ограничивается типичным для „Поклонений» несколько вытянутым в ширину треугольником, оно завершается узким вертикальным прямоугольником спинки трона, идущим до верхнего края картины. Вот эта — более сложная — форма (уже не просто треугольник) отчетливо выделяет главное, расчленяет изображение на главную группу и „крылья» и переводит мотив преклонения в гимн величания Марии.
Совсем другое значение приобретает композиционный треугольник в картоне Леонардо „Св. Анна с Марией и младенцем Христом» (Лондон) и в его одноименной луврской картине. Выделение фигурной группы обеспечено и ее центральным положением, и первоплановостью, и единственностью в глубоком пейзаже. Основная функция треугольника с подчеркнутой вертикалью — здесь — функция объединения трех фигур, объединения, вызвавшего, конечно, великие ракурсно-анатомические трудности, объединения, выражающего вместе и целостность, и движение. Конечно, и эмоциональный отзвук силуэта группы при всем рационализме композиции отвечает смыслу темы.
Естественно и стремление приблизить силуэты предметов и отдельных фигур к легко читаемым простым геометрическим формам, если таким путем не разрушаются предметы и не умаляется выразительность. Это один из приемов обобщения. Иногда говорят в связи с этим приемом о превращении формы в знак. Здесь ненужное смешение обобщенной выразительной формы и знака. Обобщение формы может идти в двух направлениях — в направлении усиления выразительности, обогащения смысла, иногда обогащения иносказанием, и в направлении обеднения выразительности, сжатия иносказания до голого геометрического понятия. Круг как круг.
Вспомним круговую конструкцию главных силуэтов в „Троице» Рублева. Круг (овал) здесь ясно выражен. Но конкретность предметных форм сохранена. Можно было бы представить себе большую дробность предметных форм. Тогда круг потерял бы свою объединяющую функцию и иносказательный компонент содержания. Но и обратно, обобщая группу приближением к точному кругу, мы теряли бы богатство содержания. От внутреннего действия и даже от триединства не осталось бы и следа: просто голый круг, своего рода „рама».
Напомним, что речь идет о приближении к геометрическим фигурам. Их интересные образные варианты должны были бы составить своеобразную геометрию плоских образных форм (см. прим 10) -параллель строгой геометрии на плоскости. Может быть, следовало бы говорить шире об орнаментальной геометрии.
Геометрические фигуры и вообще геометризированные формы выполняют те же функции выделения, расчленения и объединения и в фоновых элементах композиции, будучи соотнесены с главным действием. Такова роль геометризированных (или любых обобщенных) частей природного пейзажа и особенно архитектуры.
В падуанской фреске Джотто „Бегство в Египет» треугольная г скала возвышается как раз в центре картины сзади главных фигур, подчеркивая устойчивость группы с Марией и младенцем, спокойную устойчивость, несмотря на изображенное движение. Это — центральная композиция с симметричным распределением фигур и односторонним движением слева направо. Движение завершено у правого края фигурой обернувшегося к Марии Иосифа — знак конца композиции и замкнутости внутреннего действия — и летящим ангелом, также обращенным лицом к Марии и младенцу. Вертикаль светлой скалы („фона») делит действие на второстепенное (сопровождающие бегство персонажи: меньшая часть) и главное, внутреннее действие -духовная связь двух фигур (Мария с младенцем, Иосиф, ангел: большая часть).
В другой падуанской фреске „Оплакивание» — почти диагональная композиция. Движение развивается от правого края налево вниз по направлению к голове Христа и припавшей к его телу Марии (главное действие). Слева мы находим устойчивую плотную вертикальную группу. Справа движение выделено светлой диагональю скалы -гипотенузой прямоугольного треугольника, объединяющего правую динамическую группу.
Очень выразительна и символична для всей композиции фигура Иоанна, фигура с откинутыми назад руками. Это „почти» треугольник — острием книзу, но и не треугольник, а птица или ангел с раскинутыми крыльями: и оплакивание и духовный подъем.
Очень часто аналогичную объединяющую и расчленяющую функцию выполняет фоновая архитектура. Если снова обратиться к образцам композиции Джотто, можно назвать фреску „Воскрешение Друзианы» (Санта Кроче, капелла Перуцци). Фоновая архитектура разбита на два крыла. Левое — с высокими башнями и правое — с дворцовым зданием. Посередине сравнительно низкая крепостная стена. Левая группа во главе с Франциском точно совпадает с силуэтами башен, образуя единое левое прямоугольное поле. Так же точно совпадает с силуэтом дворца правая группа, образуя прямоугольное поле. Крепостной стене (посередине между боковыми полями) отвечает цезура, носилки с приподнявшейся на них Друзианой и две коленопреклоненные фигуры. Силуэт архитектуры повторяет силуэт толпы. Членящая и объединяющая функция архитектуры здесь очевидна, так как не действие вписывалось в архитектуру, а вымышленная архитектура рисовалась для того, чтобы своими силуэтами организовать восприятие действия.
Подчеркивание членения плоскости архитектурой и обобщенными природными формами типично и для русской иконы. Иногда эти формы становятся знаками членения сюжета. Так во многих вариантах ветхозаветной „Троицы» над каждой из трех фигур высится свой атрибут — дом Авраама, мамврийский дуб, гора. В длительной иконографической традиции геометризованные условные формы предметов становятся и конструктивными опорами и знаками сюжетного членения плоскости.
Простые геометрические формы архитектуры сохраняют свою функцию членения плоскости и в раннем, и в Высоком Возрождении, и в классицизме. Расположение окон в „Тайной вечере» Леонардо з „подчеркивает» своей метрической равномерностью ритм фигурных групп. Возьмем ли мы развернутые в ширину композиции Боттичелли (например, его „Клевету») или архитектурные мизансцены Рафаэля, всюду очевидна членящая плоскость на сюжетные группы и объединяющая функция архитектурных форм.
Для фресок Джотто и его современников она — закон. Простые прямоугольные формы открытых интерьеров, где размещены действия, хорошо выполняют функцию членения плоскости. Так в падуанской фреске Джотто „Явление ангела св. Анне» главная часть сцены выделена и объединена простым прямоугольником горницы (тонкими вертикалями боковых стен, границей пола и наружным фронтоном), второстепенная, подчиненная часть сцены выделена и объединена малым прямоугольником притвора. Членящая функция архитектурного обрамления подчеркнута его геометрической строгостью и простотой. Сцена легко охватывается взором. Вероятно, справедливо утверждение, что здесь использовалась строенная архитектура театрализованных действий. Но каково бы ни было происхождение джоттовских неглубоких интерьеров, тонких разделительных колонок на первом плане, их функция, функция членения плоскости, объединения и выделения сюжетно главного – очевидна. И было удобно развить этот аспект композиции на образцах фресок Джотто — прототипах замкнутых рамой сюжетных картин.
СИММЕТРИЯ И РИТМ
Ту же роль объединения играет в композиции и симметрия, а именно осевая симметрия. Выделим центральную ось картины как ось симметрии. Она собирает, объединяет „крылья» около главной фигуры, главного действия. Конечно и здесь сказывается обобщающая функция восприятия.
Симметрические формы в картине не могут быть описаны известными формулами зеркального отображения. Это всегда „размытые», приблизительные соответствия. В картинных композициях, в противоположность чисто орнаментальным, нет строго зеркального повторения одной половины — в другой. Перед нами всегда соответствие сторон в пределах некоторой зоны вариаций, соответствие, лишь тяготеющее к геометрической симметрии (и в этом также своя — образная — геометрия).
Во многих симметричных композициях сохраняется лишь „обращенность» к центру, допускающая значительные отступления от зеркальности. Так во многих вариантах ветхозаветной „Троицы» (имеется в виду, в частности, русская икона) нет зеркального повторения, но есть выраженное в позах и жестах внутреннее, смысловое тяготение к центру, допускающее в трактовке средней, левой и правой фигур значительные отклонения от строгой симметрии. Можно сказать, за свободной симметрией как формой просматривается смысловая или, иногда напротив, — асимметрия (внутренний контраст).
Отступления от строгой симметрии значительны в динамических центральных композициях — центростремительных и центробежных. Однако объединяющая и членящая их на две половины функция обобщенной симметрии сохраняет силу. Вспомним всю проблему антиципации изображения на плоскости, особую роль центральной зоны и равновесность краевых зон.
Ритм в картине, вероятно, также можно рассматривать как один из разделов образной геометрии. Определению ритма, хорошо разработанному в музыковедении и поэтике, посвящено специальное примечание. Но что называть ритмом в живописи? Ведь ритм развивается во времени, одномерно. Это относится и к музыке, и к поэзии, и к танцу. Применение понятия ритма к живописи неизбежно сталкивается с двухмерностью картины. Картину мы обозреваем в разных направлениях. Линейный ритм, чередование величин и акцентов по одному направлению легко оценить. Но как понимать ритмическое построение на плоскости? А ведь искусствоведы и художники упорно оценивают композиции с точки зрения их ритмичности. На основании каких признаков?
Я убежден, что оценки „ритмично», „неритмично» по отношению к живописи основаны на необъяснимом для авторов „чувстве ритма».
Не знаю, насколько возможно сейчас строго обосновать это чувство упорядоченностью заполнения поля картины, но попытка сделать это необходима.
Возник ли ритм в трудовой деятельности человека или представление о нем обобщает закономерные чередования природных явлений, таких, как дыхание, равномерность и акценты морского прибоя, и в том и в другом толковании мы не найдем опоры для решения загадки ритма в изображении. Биение волны о песок ритмично. А узор, оставляемый волной на песке, тоже ритмичен? В каком смысле? Впрочем, здесь еще можно говорить о линейном развитии амплитуды и частоты следов волны вдоль берега. А рисунок листьев на ветке — ритмичен? Рисунок складок? По каким параметрам? На какой регулярной основе, с которой можно было бы соотносить отдельные формы метрически? А может быть, и качественно, по характеру?
Ритм предполагает метрическую основу. Ритмический рисунок, ритмическое движение воспринимается на фоне равномерного ряда групп с правильно, равномерно расставленными акцентами. Но, если метр ясно чувствуется и может быть точно определен в стихотворении и музыкальной пьесе, размещение акцентов и цезур на почве метра всегда ясно слышимая игра конкретной звуковой материи с регулярностью метра, то в чем метрическая основа живописной ритмики? Какие регулярные ряды единиц мы чувствуем как подпочву конкретного заполнения поля картины? И как они направлены?
В этой работе я считаю возможным говорить лишь об отдельных проявлениях ритма, оставляя в стороне более глубокие и еще неясные вопросы общей теории ритма.
Если ритм организует движение во времени, следовательно организует его в однонаправленном потоке изменений, то естественно искать аналогичные формы организации в пространственных явлениях одномерного развития. Выше говорилось о центростремительных и центробежных композициях. Вспомним композицию Джотто „Франциск отрекается от отца» (капелла Барди, Санта Кроче). Движение групп развивается линейно слева направо и справа налево, посередине — разрыв движения, пауза (большая цезура). Слева мы видим у края женщину, удерживающую мальчика. Это — начало движения. Фигура мальчика находится на фоне относительно спокойной группы из двух персонажей. Затем идет плотная группа из четырех персонажей, отделенная вертикальной границей здания. Передний горожанин удерживает отца Франциска. Дальше — фигура отца, вырывающегося вперед. Обратим внимание на почти сплошную, слегка поднимающуюся кверху наклонную линию от рук женщины до оттянутой назад руки отца. Это и форма, сдерживающая движение, и связь групп в единое крыло композиции.
Справа развитие групп менее динамично, но более расчленено. Начинается оно и здесь с фигур женщин и мальчика. Затем следует отделенная контуром стены группа из трех фигур в монашеских одеждах. Впереди темной фигуры (это тоже цезура, только цветовая) — главная группа: Франциск и обнимающий его епископ.
В чем же здесь ритмика построения? Если выделить первопланные силуэты, окажется, что в левой части толпы между фигурой женщины и первой вертикальной мужской фигурой сравнительно большой интервал, между первой мужской фигурой и второй — малый интервал, между второй фигурой и фигурой отца — наибольший интервал. Этому распределению интервалов отвечают вставки фигур заднего плана: одна плюс свободная лента фона, одна и две.
Движение строится так: толчок (зачин), затем сжатие и наконец -сильный выпад. Ритм распрямляющейся пружины.
В правой группе движение спокойное. Это почти чистая метрика, разбитая только средним пятном — фигурой монаха в темном одеянии: ритм „стоячей волны», вся сила которой скрыта в глубине.
Если сравнить эту фреску с аналогичной фреской в Ассизи, нетрудно заметить, что там плотная толпа слева и четыре фигуры справа не расчленены на группы. В композиции — один интервал в центре (цезура, выражающая разрыв). Композиция более статична. Перед цезурой всего лишь один акцент — фигура отца в светло-желтой одежде. Фреску капеллы Барди отличает более сложная акцентировка. Кроме фигуры вырывающегося отца акцентирована соседством с темной фигурой светлая группа (св. Франциск, епископ). Можно сказать, что здесь главные персонажи выделены двусторонними цезурами (удерживание, разрыв, стойкое противостояние). Другие фигуры переднего плана несут вспомогательные акценты. Итак, ритмический ряд создается более или менее ясным членением фигур и предметов на группы, различиями интервалов, цезур между группами, распределением акцентов, главной цезурой, главным акцентом.
Но что же здесь служит регулярной метрической основой для ритмических вариаций, ее модулем? Модуль скрыт. Но человеческий глаз в силу метрической структурности восприятия невольно соизмеряет интервалы и группы, если они достаточно ясно выражены. Архитектурный пейзаж и интерьер подчеркивают членение и единство сюжетных групп на плоскости и в приведенных образцах содействуют ритмической ясности групп своей четкой метрикой. Изумительная по своей ритмической ясности композиция фрески Джотто „Кончина св. Франциска» в капелле Барди развертывается на фоне стены, симметрично замкнутой крыльями здания. Хотя в композиции ясно выделен центр, движение в толпе прощающихся с Франциском идет справа налево, а кончается у головы святого. Слева и справа в соответствии с архитектурой оно замкнуто статическими группами, каждая из пяти фигур, обращенными к ложу умирающего. Стена разбита на пять равных филенок (центральная немного уже остальных). Это — строгая метрическая основа. Передние коленопреклоненные фигуры, наклоненные влево, помещены на неравных интервалах: одна, затем цезура и две рядом. Аналогично — задние коленопреклоненные фигуры — одна, затем цезура, совпадающая с цезурой переднего ряда, и три вместе, причем, третья — противоположным движением и жестом выделяет композиционный центр, голову святого. Как раз над цезурой на фоне средней филенки возвышается плотная группа из пяти фигур. Крайние группы разбиты на ряды, в переднем -три, в заднем — две фигуры.
Несмотря на эмоциональную силу композиции, ясно выраженную (мистическую) торжественность минуты, ее логика так же ясна, как ясна логика построения „Тайной вечери» Леонардо. Там — аналогично — модуль дает четкая метрика окон. В едином ряду — четыре группы по три фигуры. Две группы, примыкающие к центру композиции — фигуре Христа, раскинувшего руки, — направленные к центру (реакция приверженности и возмущения), две крайних — отделенные большими интервалами, замкнутые в себе (реакция изумления) завершают композицию.
В описаниях и схемах ритмических композиционных структур часто пользуются плавной кривой, объединяющей головы фигур, верхние части предметов и зданий, рисунок рук, положение ног. Подобные кривые дают наглядное представление о волнообразном движении. Так выражаются акценты по высоте, плавные нарастания по высоте, словом, ритмические колебания по вертикали. Но упускают более существенное для ритмического построения деление на группы, сгущения и разрежения групп, короткие цезуры и длительные паузы. По отношению к этим явлениям ритма возвышения и низины, цветовые изменения выступают лишь как акценты. Для картины более существенны, говоря языком геометрии, не поперечные, а продольные колебания, вдоль оси движения.
Сложность проблемы ритма в картине и сложность его схематического изображения состоит конечно и в том, что ритмично не только построение на плоскости, но и построение в глубину. Кривые, наглядно выражающие ритмы во фронтальной плоскости, следовало бы во многих случаях дополнить кривыми, выражающими движения и группировку „в плане».
До сих пор речь шла о ритмическом построении сюжетных групп участников сцены (по аналогии можно было бы говорить о построении предметных групп, например, в архитектурном пейзаже). Однако ритмическое построение существенно и для более абстрактных элементов формы. Функция ритма в картине при этом существенно расширяется.
” В „Оплакивании» Боттичелли (Милан) линейные ритмы складок едва ли не самые сильные факторы объединения и выразительности. Здесь речь идет уже не об одномерности развития ритма, а о ритмическом расположении линий по всей плоскости картины. Скрытый модуль есть и здесь. Он виден хотя бы в одномасштабности складок и в сходном характере их кривизны. Модуль складок связан с природой ткани, легкой или тяжелой, мягкой или ломкой. По всей плоскости идет игра линий, рисующих складки одежд, линий, подчиненных единому формообразующему правилу. Внизу — это горизонтальные группы, выше — ниспадающие. Между теми и другими — переходные кривые. Линии образуют узкие миндалевидные овалы. Складки стремятся вниз, задерживаются и, меняя направление на промежуточных опорах, широко ложатся внизу, всегда сохраняя единообразие форм. Складки облекают контуры фигур, выражают суть движения. Основной контраст и основная ось композиции — прямая вертикаль плеча и руки Иоанна. Ей отвечает слегка изогнутая по аналогии с формами складок горизонталь тела Христа.
Совсем другие кривые, но столь же ритмичные заполняют плоскость в „Весне» Боттичелли (Уффици). Это вертикально направленные, вьющиеся кривые легких складок и контуры женских фигур, распределенные по всему полю картины, повторяющие и неповторяющие друг друга (система аналогий и контрастов в едином потоке формообразования). Им противопоставлен в контрастном ритме мелкий узор цветов и листвы. Можно было бы сказать и о ритме групп и интервалов этой картины: движение справа, акцент на второй фигуре, цезура — на центральной фигуре (в глубине!), кругообразное развитие в левой группе из трех фигур (мотив хоровода) и устойчивое завершение, остановка в крайней фигуре слева.
Говоря о ритме линий, распределенных по плоскости картины, я отдаю себе отчет в существенном расширении понятия „ритм». Но возможно, что именно такое расширение отвечает понятию ритма как части „образной геометрии». О ритме в живописи легче говорить в случаях одномерного распределения предметов, персонажей, форм, легко обосновать отличие ясного ритмического построения от ритмически вялого. В случае двухмерного распределения по всей плоскости приходится полагаться на скрытую метрику, на масштаб и даже на единый закон некоторой формы-прототипа, ощущаемый в его подвижных вариациях.
Природную аналогию таким ритмическим явлениям можно видеть в рисунке, который оставляют на песке ритмически набегающие волны. Он — результат и интервала между волнами, и высоты волны, и формы песчаной отмели. Сравните этот узор с единообразным и вместе вариативным рисунком складок в картинах Боттичелли. Он зависит от характера ткани, формы, на которой ткань лежит, направления силы тяготения, движения фигуры. О складках хорошо писал П. Я. Павлинов.
Конечно, ритм здесь выступает не в функции распределения изображения на плоскости, а лишь в функции объединения. Но часто именно по контрасту с единообразием форм, нарушения этого единообразия приводят к эффекту расчленения плоскости. (Сравни плечо и руку Иоанна в вышеупомянутой композиции Боттичелли „Оплакивание» — миланский вариант.)
Наряду с ритмикой линий, распространяющейся на всю плоскость картины, следует говорить и о ритме цвета — цветовых рядах, цветовых акцентах (см. мою книгу „Цвет в живописи») и о ритме ударов кисти художника, единообразии и вариативности ударов по всей плоскости холста.
Ярчайшим образцом линейной и цветовой ритмики служит живопись Эль Греко. Единый принцип формообразования и вариативность форм явно конструктивного и, конечно же, смыслового характера (смысловые аналогии, смысловые контрасты) делают его холсты образцами сквозного ритма по всей плоскости.
Ритмика ударов кисти ярко выражена у мастеров с „открытой» фактурой, например у Сезанна. И ритмика эта также подчинена образу. Один ритм — в вариантах купальщиц Сезанна, другой — в его пейзаже „Берега Марны» (ГМИИ), где прием ритмической штриховки объединяет листву и ее отражение, деревья и мостик.
Пространство как композиционный фактор
ПЛОСКОСТЬ И ПРОСТРАНСТВО
Начну эту главу теми же истинами, что и главу о плоскостных конструктивных формах.
Картина есть прежде всего ограниченный кусок плоскости с распределенными на нем пятнами краски. Это — ее непосредственная реальность. Но не менее реален и тот факт, что она — картина не пятен, распределенных на ее плоскости, а предметов, их пластики, пространства и плоскостей в пространстве, действий и времени. Картина -построенное изображение. И когда мы говорим, „какая открылась картина», имея в виду реальный пейзаж, мы подразумеваем также некоторую построенность в самом восприятии, готовность для изображения, картинность, хотя и не осуществленную в картине.
Изображение (картина) — реальная плоскость и она оке — образ другой реальности. Все сказанное достаточно элементарно. Однако элементарные истины чаще всего остаются без развития. Понятие „изображение» — двойственно, так же как двойственно понятие „знак», как двойственно понятие „слово». Образ, воплощенный художником в картине, есть связка — третье между картиной как реальной плоскостью и изображенной реальностью. Это третье дано посредством пятен и линий плоскости, подобно тому как смысл слова дан посредством своего звукового носителя, и как слова с их смыслом мы воспринимаем не так же, как воспринимаем саму рассказанную действительность, объект словесного описания, и не так же, как непонятный звук, так и изображение (картину) мы воспринимаем не так же, как воспринимаем объект изображения, и не так же, как ничего не изображающие пятна и линии. Правда, связь между словом и его значением иная, чем связь между пятнами картины и образом, первая -знаковая (слово — значение), вторая незнаковая. Но в какой-то еще не установленной системе понятий оба типа связи — связи с одними и теми же родовыми признаками. И в этом факте — здоровое зерно семиотики. Впрочем, в нем же и необоснованность ее агрессивной позиции („все в явлениях культуры есть знак») (см. прим. 3 к гл. I).
И композиция картины есть прежде всего построение изображения на реальной плоскости, ограниченной „рамой». Но это вместе с тем построение изображения. Вот почему во второй главе, говоря о построении на плоскости, все время имелось в виду построение не пятен на плоскости, самих по себе, а построение — в пятнах и линиях -пространства, групп предметов, действия, сюжета.
Среди композиционных задач, необходимых в картине или рисунке, задача построения пространства является одной из самых важных. Пространство в картине это и место действия, и существенный компонент самого действия. Это — поле сталкивающихся физических и духовных сил. Вместе с тем это также среда, в которую погружены предметы, и существенный компонент их характеристики. В этой среде вещам и людям может быть тесно и просторно, уютно и пустынно. В ней можно увидеть жизнь или только ее отвлеченный образ. Там — мир, в который мы могли бы войти, или особый мир, непосредственно закрытый для нас и открытый лишь „умственному» взору. Словами „композиционная задача» подчеркнута следующая мысль. Речь идет не о характере реального пространства, подлежащего изображению, а о построении (синтезе) пространства на изображении, следовательно, о пространстве образном. Связь между тем и другим, так же как и различие между ними подчеркнуты двойственностью самого понятия „изображение».
Мы воспринимаем пластику изображенного на плоскости предмета и трехмерное пространство иначе, чем реальное пространство (воспринимаем посредством сокращенных сигналов и измененных механизмов, благодаря специальному опыту изобразительной деятельности). И этим опытом определяются как общая особенность, так и тип пространственного и пластического синтеза на картине.
Даже при отсутствии изображения, как мы видели, плоскость становится для глаза художника пространственно неоднородной. Уже вследствие одного факта картинного ограничения она становится углубленной к центру поля и гравитационно неоднородной. Между тем, воспринимая плоское поле как таковое, независимо от рамного ограничения, мы не видим в нем глубины и различного значения верха и низа.
Установим и еще один фундаментальный тезис. Нельзя изобразить одно пространство, пространство для ничего. Изображение пространства зависит от изображения предметов. Изображение архитектуры и особенно архитектурного интерьера потребовало нового понимания пространства (завоевание линейной перспективы). Природный пейзаж потребовал освоения пространственных ценностей пленэрной живописи (воздушная перспектива). Можно даже сказать, пространство на изображении часто строится предметами, их расположением, их формами (двухмерными или пластическими), и характером подачи формы, и всегда строится для предметов. Справедливо мнение, что отношение художника к предмету есть также отношение его к пространству. Вот почему беспредметная живопись естественно переходит в живопись пространственно неопределенную и бесформенную, ведь форма (фигура) — всегда прямо или опосредованно связана с предметом, а предмет с пространством. Отсутствие на изображении фигур есть вместе с тем и отсутствие или неупорядоченность пространства. Нефигуративная живопись это даже не „узор» пятен, сохраняющий декоративную ценность (в узоре есть ясное соединение фигур), а случайное множество бесформенных пятен в неопределенном пространстве.
Однако, как ни существенна мысль об исключительном значении для изобразительных искусств пространственной задачи, признание ее главенствующей роли является преувеличением. Высказанная, в частности, А. Гильдебрандом и естественная для скульптора мысль о доминирующем значении для пластических искусств чисто пространственных ценностей еще не изжила себя в сознании художников, выступающих, так же как Гильдебранд, против натурализма и импрессионизма, против того, что так неудачно называют теперь „оптическим» подходом к действительности, как если бы была возможна живопись для слепых.
Выделение пространственных ценностей как единственных или главных ограничивает задачи искусства. У художника это чаще всего попытка утвердить универсальное значение собственных творческих средств, применяемых при решении содержательных творчески задач. Перекликающееся с известным сонетом Микеланджело представление Гильдебранда о пространстве картины как сосуде с водой, где равно важны и формы погруженных в пространство предметов и форма пространства между предметами, типично для определенного круга композиционных решений.
Но предметы погружены также в среду, наполненную цветом, светом или мраком, взаимодействуют и с ней.
Пространственная задача может быть подчинена цветовой композиционной задаче. Разве „Сирени» Врубеля можно отказать в композиционности только потому, что основным средством в этой известной картине служит цвет? Именно в его сумеречном аккорде — эмоциональное воздействие образа („форма воздействия»). Вместе с тем — это вовсе не ковер пятен, а цветовое пространство. Предметы и пространство здесь — не две взаимоопределяющие, но противостоящие друг другу формы, как позитив и негатив, а единая предметно-цветовая среда.
Но обязательно ли для изображения вещей трехмерное пространство? Возможны ли совершенно плоскостные изображения? Всегда ли стоит перед художником двоякая композиционная задача — и плоскость и пространство? В последнее время модно думать, что изображение предметов без какого-либо отношения к трехмерной задаче, изображение, утверждающее только плоскость, возможно. Думают даже, что в таком решении образа заключено естественное требование прочной связи живописи с архитектурой. Вопрос о связи с архитектурой не входит в нашу тему. Но надо со всей серьезностью отнестись к следующему, хорошо установленному факту. Любая, даже плоская фигура, а тем более узнаваемый силуэт предмета, даже и оставаясь однородно окрашенным пятном, и даже — только замкнутым контуром, читаются иначе, чем окружающий их „фон». „Фигура» читается более плотной и выступающей вперед. „Фон» всегда читается как распространяющийся за „фигурой». Перед нами, очевидно, элементарный признак трехмерности, глубины. Благодаря явлению „фигура — фон» трехмерность вторгается как неизбежное следствие изображения вещей и даже абстрактных фигур (но не бесформенных пятен).
Возможно ли, с другой стороны, совершенно иллюзорное изображение на плоскости — такое, чтобы плоскость вовсе не читалась, и отношение к ней художника и зрителя как к материальной плоскости отсутствовало бы вовсе? Выше мы уже ответили на этот вопрос отрицательно. Никакое изображение на плоскости не располагает всей суммой средств восприятия трехмерного пространства, каким мы пользуемся, воспринимая зрительно окружающий нас мир. А мы воспринимаем пространство не только зрительно! Больше того, для восприятия изображения необходима специальная установка зрителя на отключение (или ослабление) восприятия реального окружения.
Говорят, что „иллюзорное» изображение, принятое в европейском искусстве со времени Возрождения, можно уподобить открытому окну2. Это несостоятельное сравнение. Любая картина, скорее, элемент стены, по отношению к которой реальное движение ограничено движением вдоль ее поверхности и отходом. Она — непрозрачная плоскость, где совершается переход реального движения — в условное, только „зрительное» движение. Существенная сторона восприятия открытого окна — сознание расширения реального пространства на новую пространственную зону, сознание возможности реального выхода в большое пространство. Совсем иное дело — сознание изобразительной иллюзии пространства и особая установка на восприятие не самой реальности, а ее изображения, сознание возможности лишь мысленного входа в изображенное пространство.
Обычно забывают, что такой мощный механизм восприятия пространства, как бинокулярное слияние диспаратных образов левого и правого глаза и вся сумма сопутствующих движений (глаз, головы, и т.п.), информирует нас не только о трехмерной форме и глубине, но и о плоскостности. Стереоэффект (безусловный рефлекс от слияния диспаратных образов для двух глаз) включает в себя и минус стереоэффект при восприятии плоскости (безусловный рефлекс на плоскость).
Реальная попытка войти под своды архитектуры, изображенной в „Афинской школе» Рафаэля (образец исключительно сильной пространственной иллюзии), могла бы служить симптомом тяжких мозговых нарушений. Мы не видим на картине реального пространства, хотя и видим изображение пространства и можем любоваться силой его изображения.
Вопрос о том, как видел бы наше иллюзорное изображение (например, фотографию) египтянин древнего мира или человек каменного века и видел ли бы он, скажем, перспективные сокращения как выражающие пространство или как искажающие форму, остается в области догадок, если, конечно, не отстаивать ту наивную точку зрения, что человек всегда изображает, как видит, а не так, кроме того, как хочет и может, как воспитан традицией.
ВОСПРИЯТИЕ ПРОСТРАНСТВА И ПРОСТРАНСТВЕННЫЙ СИНТЕЗ НА КАРТИНЕ
Нет изображений на плоскости, в которых так или иначе не читалось бы пространство. Нет и таких изображений, где вовсе не читалась бы непрозрачная плоскость изображения. Пространство, как важная для любой картины композиционная задача, определяется характером соотношения с плоскостью, составом плоскостных средств, используемых в синтезе „плоскость — пространство».
Начиная со второй половины XIX века — к тому времени естественные науки, изучавшие человека, сделали огромный шаг вперед, -естествоиспытатели, искусствоведы и художники пытались связывать теорию изобразительного искусства с данными физики, физиологии и экспериментальной психологии. Импонировала научность фундамента. Выводили законы искусства из законов оптики и закономерностей зрительного восприятия. Такие ученые, как Г. Гельмгольц, теоретики импрессионизма, цветоведы исходили из типичного для того времени понимания задач художественного изображения. Считали само собой разумеющимся, что действительность может и должна выглядеть на картине точно такой, какой „мы ее видим». Именно для этого Гельмгольц, например, пытался вывести правила изображения „верных» светлотных отношений и светлот из законов приспособительной работы глаза, а цветоведы — правила цветосочетаний из законов цветового зрения, смешения и контраста цветов.
Итак, изучали законы цветового зрения, процесс восприятия пространства и синтез, „представленный» только как общий процесс. С этой точки зрения моделирование процесса создания картины кажется не слишком сложным. Ведь человек изображает „так, как видит». Он изображает хорошо, если „верно» видит (прим. 3). Но что значит — „верно»? И разве задача изображения, даже ремесленного изображения, не требует особого восприятия цвета для его передачи на ограниченном куске плоскости, разве она не покоится на особом восприятии пространства „для его изображения»!
Была ли это реакция против натурализма и импрессионизма, как иногда думают, или против академической рецептуры, но в самом конце XIX и начале XX века многие художники и искусствоведы увидели недостаточность прямого переноса общих данных науки о зрительном восприятии на творческий процесс. Задача художника глубже, чем задача простого воспроизведения природы. Снова возникла старая идея, которую Гёте выразил так: на картине мы видим мир „более зримый» (яркий, выразительный), чем действительный мир. Каким образом?
А. Гильдебранд и позднее Г. Вёльфлин, а у нас В. Фаворский стремились осмыслить процесс восприятия и синтеза представлений, необходимый для художественного изображения. Не всякое явление, а только выразительное явление предмета воспроизводится в искусстве. Гильдебранд противопоставлял „форме бытия» „форму воздействия» — выразительную форму. Процесс восприятия действительности художником должен быть, по его мысли, отбором „форм воздействия», необходимых для художественного изображения, и их синтезом. Фаворский в этом же смысле говорил о синтезе времени и пространства на композиционном рисунке.
Раньше законы искусства пытались вывести из общих законов’ восприятия действительности, теперь выводили эти законы из особого, избирательного восприятия действительности и синтеза полученных таким путем представлений.
Сразу же стало очевидным значение противоречия между изобразительной плоскостью и трехмерным пространством (объемом), между движением, жизнью и ее неподвижным образом на картине. Возникли понятия „далевой образ» и образ, представляющий собой синтез двигательно-зрительных данных при рассматривании предмета вблизи (А. Гильдебранд). Стали различать рисунок „объемный» и „плоскостной» (светотеневой). Первый связывали с движениями глаз, переменой точек зрения и обобщающей, объединяющей функцией представления, второй — с „чисто оптическим» подходом к действительности. Акцентировали двигательные и осязательные связи зрительного восприятия, синтез представлений, синтез разных профилей предмета, разных пространств, разных состояний во времени (В. Фаворский)4.
В эти годы, углубившись в специальные исследования, психологи и физиологи потеряли интерес к вопросам искусства и названные теории художников сводились к своеобразному использованию старых данных времени Гельмгольца, Сеченова.
Данные психологии и физиологии были не новыми. Но существенным было все же новое направление изучения восприятия „для изображения». И именно эта новизна не была принята в те годы естествоиспытателями5.
Итак, раньше изучали восприятие (представление) действительности как общий процесс, не задумываясь над тем, каков он в деятельности художника. Позднее постулировали особый характер восприятия (представления) действительности в целях изображения, привлекая, однако, для его объяснения по-прежнему старые данные общей психологии и физиологии. Совершенно не изучали сам реальный процесс изображения, ни как „ремесленный», ни тем более как творческий процесс. Не изучали поэтому и восприятие изображения, неизбежно присутствующее в этом процессе. Пропустили важнейшую проблему „чтения» изображения, от решения которой в значительной мере зависит также и решение вопроса об особенностях восприятия действительности „для изображения». В понятии „формы воздействия» (выразительной формы) содержится только предчувствие этой проблемы.
Не видели, что процесс восприятия предмета (действительности) художником определяется не только задачей изображения, но и самим процессом изображения, характером этого процесса н его существенной частью — восприятием („чтением») возникающего изображения. Не замечали, что именно в особенностях восприятия изображения содержатся ключевые вопросы цветовых гармоний, пространственного решения, композиции.
На языке современной науки можно так выразить нашу мысль. Раньше имели в виду только прямые связи изображения с действительностью, не видели особого характера и значения обратных связей (от изображения к предмету для продвижения и улучшения изображения).
Если же уяснить существенную разницу в каналах информации между восприятием предмета и восприятием его изображения, станет очевидной несостоятельность попыток построить теорию композиции, игнорируя особенности восприятия изображения.
Расчленим вопрос о зрительном восприятии пространства на два вопроса.
Определим, прежде всего, что известно и что не решено в современной науке относительно восприятия реального пространства, чтобы затем установить, что и как может войти в восприятие изображения из общего зрительного опыта.
Под влиянием Гильдебранда, воздействие которого испытали на себе многие искусствоведы и художники, у нас, в частности, выдающийся график В.А.Фаворский, существует неверное представление о решающей роли движения глаз, смены зрительных позиций и общего двигательного опыта в восприятии пространства.
На самом деле в восприятии реального пространства движения глаз, сведение их осей (конвергенция) и аккомодационное усилие, во-первых, ограничены зоной очень малых расстояний, во-вторых, — не способны противодействовать другим более мощным признакам -глубины.
Вот какой итог формулирован в сводном труде Р.Вудвортса „Эспериментальная психология», автора очень внимательного к фактам и всегда в случае открытого спора резервирующего свою точку зрения, стараясь объективно изложить все „за» и „против» разных теорий: „…из всех этих экспериментов… мы можем почти наверное сделать тот вывод, что осязательно-кинэстетические ощущения конвергенции и аккомодации играют в правильном восприятии расстояния весьма малую роль. Даже на таких малых расстояниях, как 15-30 см, аккомодация и конвергенция сами по себе, видимо, мало содействуют восприятию глубины».
Рассматривая проблему зрительного восприятия пространства в целом, Вудвортс заключает главу такими словами: „Все говорит в пользу большого преобладания зрительных признаков. Они не только более точны, чем тактильные, кинэстетические ощущения из области глазных яблок, но непосредственно „привязаны» к зрительному полю. В обычных условиях все признаки интегрированы, точнее говоря, они совместно участвуют в создании воспринимаемого пространственного поля. Исключая случаи манипулирования небольшими предметами прямо перед глазами, бинокулярные признаки, вероятно, менее важны, чем заслонение, тени и различные виды перспективы» (курсив мой. — Н.В.).
Правда, ясное восприятие пластической формы требует иногда хотя бы частичного обхода предмета. А обход предполагает перемену зрительных позиций. Возвращаемся ли мы при этом к основной позиции, сохраняя цельность объемного образа благодаря непосредственной зрительной памяти, или, накапливая множество разных аспектов, строим изображение по системе, отличной от системы центральной перспективы, мы, несомненно, опираемся на широкий зрительный опыт, но все же опыт зрительный, и создаем образ для зрения.
Это надо подчеркнуть. Двигательный опыт часто привлекают без толку, забывая о его перекодировании в зрительные признаки.
Я вынужден обойти сложнейшую проблему синтеза образов в зрительном восприятии реального пространства, синтеза как процесса, обусловленного нашей повседневной деятельностью, хотя для искусства это важный вопрос. Если надо говорить о роли восприятия реального пространства для художественной деятельности, то не по данным психофизиологии XIX века.
Ограничусь образной характеристикой процесса. Мы живем среди вещей и человеческих отношений, живем в непрерывном действии и общении. Пространство приобретает форму и меру от размещения в нем предметов и наших действий с ними. Оно сжимается и расширяется в восприятии, уплотняется в густую среду или приобретает характер бесконечно распространяющейся пустоты, оно анизотропно (неоднородно).
Реальное пространство есть уходящая вдаль плоскость земли, на которой мы стоим, ощущая ее твердость и радуясь океану воздуха над нами; оно — ущелье улицы между тесными домами, где нельзя пройти в стороны; пространство крыш; ничейное пространство до окопов врага. Образ реального пространства синтетический, он создается не только актом зрения, но и всей суммой действий с предметами и около них. Однако для изображения существенны только зрительные признаки. В картине весь опыт перекодируется в формы зрительного синтеза. Пространство и пребывание в нем находят свое зрительное выражение, пластика предмета и деятельность с ним даются в зрительном переводе, для зрения и только вследствие этого для восприятия изображенного действия и для понимания его смысла.
В повседневной практике, а тем более в чрезвычайных обстоятельствах — все в движении, зрительная позиция меняется, предмет уходит из поля зрения и внимания и появляется в нем снова, но уже другими сторонами.
Синтез пространства в самой жизни есть синтез выборочный, тесно связанный с деятельностью человека. Наивно думать, что этот синтез приведен к плоскости, он приведен к деятельности с ее ориентировочными и другими компонентами. Он вспыхивает и гаснет, носит то крайне обобщенный (размытый), то врезывающийся в память характер. Система его перевода на тот или иной язык, например, на язык живописи не предуказана в неосознанных изменениях образа. Обходы вещи и проходы между ними могут быть и существенными, и совершенно несущественными в практике общения с вещами.
Как входит наш общий двигательный опыт в зрительное восприятие метрического пространства, какие зрительные признаки формируются как главные для изображения, какова здесь роль деятельности и научных представлений — все это еще нерешенные вопросы.
Известно лишь, что элементарный зрительный синтез осуществляется в поле ясного зрения уже с одной зрительной позиции, вследствие двуглазия. Закономерные различия и изменения образов для левого и правого глаза, как доказывает стереоскоп, обеспечивают при условии слияния образов пластический и пространственный эффект (стереоэффект). Слияние же требует конвергенции глаз на предмет. Для ближних предметов — это постоянно меняющаяся конвергенция.
Однако не следует преувеличивать в процессах восприятия пространства для изображения и роль двуглазия.
Удивительно, что в диспаратности образов для левого и правого глаза еще видят проблему двух точек зрения. Точка зрения, с которой мы видим, уже сама есть эффект подсознательного зрительного синтеза на основе „ведущего» глаза — синтеза, в результате которого разница двух точек зрения скрыта в общем стереоэффекте. Отсутствие зрительного синтеза диспаратных образов тотчас же создает двоение образа, то есть разрушает стереоэффект. Заметим еще раз, что в стереоэффект входит и минус стереоэффект, эффект плоскостности. Он также создается двуглазием. Восприятие пластики и глубины на картине как реальной плоскости всегда сопровождается минус стереоэффектом (эффектом плоскостности) и сходно с восприятием смысла речи, как будто и непосредственным, но все же опосредованным звуками.
Несомненна роль ракурсов и ракурсных изменений формы предмета в восприятии реального пространства и уменьшение видимой величины предметов по мере их удаления. Но и эти перспективные основы синтеза, использованные для построения пространства картины, совсем иначе живут при восприятии реального пространства, действуют лишь „в общем». Они постоянно „плывут», геометрически неустойчивы. Как заметил еще Аристотель, видимая величина предмета при его удалении сокращается не пропорционально расстояниям. В силу явления „константности восприятия величины» образ предмета в некоторой зоне удаления, при обычной установке, кажется почти неизменным по величине и только на больших расстояниях его изменения всегда отвечают так называемому „угловому закону» (видимая величина предмета во столько же раз больше, во сколько раз меньше расстояние до него). То же относится и к изменениям формы при ракурсах.
Итак, оставим вопрос о зрительном синтезе при восприятии реального пространства.
Зрительный синтез пространства на плоскости изображения — особый синтез. Он требует анализа и набора действенных признаков глубины, способных сработать, несмотря на минус стереоэффект.
Здесь необходим анализ самой картины, ее пространственного и пластического эффекта. И он в руках искусствоведа, в образцах живописи, в ее истории.
Какими же признаками глубины и пластики располагает живопись (рисунок), из каких элементов может складываться пространственный строй картины того или иного типа?
Самый сильный признак и самый древний с точки зрения истории изображения — заслонение (закрытие) дальных предметов ближними. Явление „фигура — фон» принадлежит к этому же кругу явлений, ибо фон кажется распространяющимся за фигурой (частично заслоненным фигурой). Заслонение всегда и безусловно дает увидение факта разного удаления, но лишь в смысле: „одно находится за другим».
Ни один другой признак глубины не может противодействовать заслонению, если заслоненный предмет узнается. Заслонением создают компактные группы с общим силуэтом. Композиционный смысл общего силуэта очевиден. Его объединяющее действие аналогично действию легко читаемой плоской геометрической фигуры (круга, треугольника), в которую вписываются персонажи и предметы сцены.
Можно сказать, что заслонение само по себе, без использования других признаков пластики и глубины, создает некоторую неметрическую, неясно выраженную глубину. Но пространство, построенное приемом заслонения, может войти и в глубокий пространственный строй как носитель особого смысла — тесноты, монолитности, единства действия — по контрасту с разобщенностью предметов и фигур — пустотами пространства, пространственными промежутками.
В такой функции его можно найти у мастеров и предшественников раннего Возрождения, в частности у Джотто. В падуанских фресках, таких, как „Избиение младенцев» (правая группа), „Оплакивание Христа» (левая группа) теснота и монолитность толпы несут важную смысловую нагрузку. И у Мантеньи в „Распятии» группа с Марией построена по принципу заслонения в соединении с повторяемостью силуэтов (склонение голов и т.д.), что служит, очевидно, выражением общей скорби. И лишь ракурсная нижняя граница толпы скорбящих и контрастная фигура воина в глубине создают дополнительные указания на значительное эшелонирование толпы в глубину, делая ее большой, мощной.
В связи со сказанным следовало бы пересмотреть традиционную точку зрения на плоскостность египетского силуэтного фриза и аналогичных изображений. Действительно ли они утверждают только плоскость стены, не давая никакого представления о „впереди и сзади»? Анализ явления „фигура — фон» делает такое утверждение сомнительным. Или пространственный эффект заслонения видим только мы — люди нового времени? Но почему же рука в классическом изображении человека египтянином пересекает (заслоняет) часть тела, а одна нога частично заслоняет другую? Я уже не говорю об отклонениях от канона, например об известной сцене с плакальщицами.
В развитии западного искусства начиная с эпохи Возрождения новое понимание пространства заставило искать средства для передачи расстояний между заслоненными и заслоняющими фигурами путем выразительных ракурсов и снятия сплошных аналогий, путем индивидуализации фигур, разнообразием движений в толпе. Но заслонение как признак глубины продолжает жить, и нельзя забывать те выразительные ценности, которые с ним связаны.
Второй признак глубины — ракурсная плоскость „пола». Обычно в расположении дальних фигур выше, а ближних — ниже видят чистую условность. Это, конечно, не так. Такое расположение прямо связано с ракурсным восприятием земли при естественной зрительной позиции стоящего, сидящего или идущего человека и гравитационной неоднородностью верха и низа картины. Именно поэтому, даже если изображение земли отсутствует, расположение фигур выше и ниже на гравитационно ориентированной плоскости говорит о разном удалении по ракурсу земли. Чаще всего, однако, даже в средневековой живописи ракурсная плоскость пола изображена или по крайней мере обозначена.
Можно ли назвать „позем» изображением земли? Эта темная узкая полоса в иконах не дает представления о мере ракурса земли, ее верх нельзя рассматривать как горизонт. Она, скорее, именно обозначение, чем изображение. Но ступни ног и одежды фигур заслоняют верхнюю часть позема, а это значит, что позем распространяется за фигурой ракурсно, а не только служит опорой.
Вместе с заслонением расположение фигур и предметов выше и ниже по плоскости картины образует целостный пространственный строй, требующий особого типа цветовых и линейных ценностей. Он не претендует на изображение глубины, которую можно было бы измерить (зрительно оценить), но очень ясно определяет слои изображения. Слои — это прообраз пространственных планов и кулис. Это простейшая система чтения трехмерности. Как система она чужда станковой картине, не определяет пространства действия, не определяет построения в плане. Но как сумма важных признаков участвует в построении картины. В частности, расположение предметов по плоскости земли на изображениях с высокой точки зрения позволяет и при отсутствии данных для выразительного применения линейной перспективы (например, природный пейзаж, см. ниже анализ „Охотников на снегу» Брейгеля) создавать глубоко эшелонированное пространство.
Затем вступает в силу новый — третий признак глубины. Ракурсность вертикальных и горизонтальных плоскостей в элементах архитектуры, пейзажа и таких предметов, как подножие, стол, мелкие аксессуары. Нефронтальные ребра предметов, пересечения поверхностей образуют целую систему линий, которые читаются в противоположность фронтальным вертикалям и горизонталям наклоненными в глубину. Мощно действуют как указатели глубины линии пересечения ракурсных вертикальных плоскостей с полом. Эти линии, даже не будучи подчинены какой-нибудь системе, способны вызвать эффект глубокого пространства.
Именно на этом уровне признаков трехмерного пространства мы встречаемся и с перспективой в узком значении слова. Не будем останавливаться на вопросе, что здесь следует считать прямым следствием изменения зрительных сигналов в восприятии действительности при ракурсах и удалении, а что — следствием изобразительного опыта и возникающей в нем изобразительной системы.
В целом очевидно, что плоскостность изображения требует жертв либо за счет метрической ясности, либо за счет формы предмета. Отличным примером жертв может служить изометрия. По определению изометрической задачи, изображение по всем трем осям сохраняет действительные размеры (в заданном масштабе). Однако именно поэтому формы некоторых граней или поверхностей, считая по плоскости, страдают (это — жертва). Прямоугольные грани куба, например, превращаются в ромбы. Неискаженное совместное изображение всех граней куба может быть дано только в развертке, то есть за счет отказа от передачи трехмерной формы (это — противоположная жертва).
Что касается группы предметов, то здесь вопрос решает система. Такие предметы, как куб, легко узнаются в аксонометрии, но кажутся искаженными в системе прямой перспективы и, наоборот, в аксонометрическом изображении предмет, изображенный по правилам прямой перспективы относительно некоторого воображаемого горизонта, кажется искаженным (его форма не узнается). Так же как система признаков (сигналов) глубины, так и связанная с ней система жертв создают тип пространственного построения.
Следует заметить, что геометрическая (чертежная) точность для полноценного эффекта трехмерности изображения вовсе не требуется. И когда мы говорим о ракурсности как новом признаке глубины, суть дела не в строгой геометрической системе, а вообще в создании на картине впечатления ходов в глубину, их богатства. Система, например система прямой (центральной) перспективы или аксонометрия, лишь приводит к единству метрику пространства в ее сокращениях на плоскости и меру искажения форм предметов.
Почти любая совокупность линий на плоскости, в которую входят наклонные и кривые, в особенности же ритмическая система, система с параллельными и контрастными линиями, воспринимается как выражающая глубину, трехмерную форму и движение. Сюда относятся лестничные построения, типичным примером которых может служить изображение поднимающейся кверху земли в иконах (так называемые „иконные горки»). Сюда относится зигзагообразная линия оснований предметов как результат повернутости предметов друг относительно друга. Сюда относятся и совсем абстрактные развертки прямоугольных предметов и пересечения кривых поверхностей в складках одежды, лежащих по форме тела. Ракурсность — указатель глубины, допускающей соседство изометрии, фронтальной проекции, прямой перспективы и так называемой „обратной перспективы» на одной и той же картине. Этим малоизученным в его общности генератором глубины и пластики пользуются, между прочим, кинетисты, в своей графике сознательно отрывая игру линий и поверхностей от изображения вещей, для которого они возникли. Аналогия с абстрактной игрой цветовых пятен здесь совершенно очевидна.
Полезно дать анализ нескольких образцов, где пространство строится богатством ходов в глубину, без помощи средств прямой перспективы.
В правой нижней четверти четырехчастной новгородской иконы из Русского музея (XIV-XV вв.) изображен евангелист Иоанн, диктующий Прохору текст Евангелия. В нижней правой части иконы мы видим активную ломаную линию основания скамьи Прохора, его подножия и стола, на котором он пишет. В нижней левой части налицо аналогичная конструкция хода по земле (впрочем, не столь активная). И в повороте массивной фигуры Иоанна с богато разработанной системой выражающих пластику формы складок, и в ступенчатых формах земли сзади („горках»), уходящих в глубину, мы видим явное стремление создать объемы и углубиться в изображенное пространство, вписать сцену в „пещеру». Однако плоскости прямоугольных предметов не подчинены ни прямой, ни так называемой „обратной» перспективе, ни системе аксонометрической. Боковые грани и ребра то расходятся к предполагаемому горизонту, то строго параллельны, а в „горках» — даже сходятся.
В „Успении» Феофана Грека (ГТГ) подставка для свечи дана в слабо выраженной „обратной» перспективе. Ложе богоматери — в параллельной перспективе. Верхняя грань ложа развернута, очевидно, для выделения и показа тела богоматери. Сильные ходы в глубину по ракурсной плоскости пола намечены ступнями ближних апостолов и плотными группами слева и справа, построенными по принципу тесного заслонения и возвышения дальних фигур над ближними как бы по направлению к некоторому предполагаемому, неопределенному горизонту. Над ними возвышаются выделенные белыми одеждами пророки и Христос, держащий душу богоматери. Эти три фигуры входят в новое, „духовное» пространство — пещеру, замкнутую правильной дугой. Земное же пространство продолжается в условной архитектуре башен справа и слева, замыкающих сверху всю композицию. Здание справа выдержано в параллельной перспективе, заставляющей предполагать горизонт выше рамы. Здание слева, напротив, — в очень своеобразном сочетании параллельной и „обратной» перспективы, придающей ему причудливую, алогичную форму. Совершенно ясно, что никакой системы „обратной» перспективы в этой иконе нет, но есть активная система ракурсных ходов в глубину.
В более ранней иконе того же названия („Успение», ХП-ХШ вв., ГТГ) вообще нет намека на „обратную» перспективу. Ее отличает слоевой тип построения. Ходы в глубину, создаваемые ракурсами предметов и групп в иконе Феофана Грека, значительно активизируют пространственный строй. В иконе XIII века „духовный мир» с фигурой Христа и ангелами — это только плоский слой, у Феофана Грека „духовное пространство» — пещера, вставленная в земное пространство.
Рассматривая внимательно „Троицу» Рублева или клейма иконы Дионисия „Алексей Митрополит» (ГТГ) и множество других русских икон периода расцвета русской иконописи, легко убедиться, что в них действует фактор ракурсности, не подчиненный какой-либо геометрической системе, достаточно мощный сам по себе.
Характер ракурсов, создающих здесь ходы в глубину, определяется необходимостью контрастов и линейных ритмов, смысловыми факторами, но не особой проективной геометрией, якобы связанной с особым восприятием реального пространства изнутри сцены, ее восприятием с множества точек зрения.
Значение ходов в глубину для построения пространства было выгодно показать на образцах живописи, где отсутствует система центральной прямой перспективы и не применяется воздушная перспектива. Ракурсы срабатывают и без перспективной системы.
Однако это вовсе не значит, что новый признак глубины ограничен средневековой живописью и ее аналогами. Вермеера Дельфтского нельзя упрекнуть в игнорировании законов центральной перспективы. Но он часто обогащает изображенное пространство, создавая ходы в глубину посредством взаимного поворота предметов. Перспектива интерьера мастерской в картине „Мастерская художника» подчеркнута квадратными плитками пола. Точка схода находится несколько левее головы позирующей девушки. Но уже стол, рядом с которым она стоит, слегка повернут вправо. Сильнее повернуто кресло на переднем плане и в противоположную сторону сильно повернут табурет художника, его фигура и мольберт. Оси предметов образуют веер, и на полу возникает узор ходов, вступающий в контрастную игру с регулярностью плиточного пола.
В пейзажах без архитектуры или без строгой архитектуры, где признаками глубины выступают лишь заслонения, уменьшение предметов вдаль, не проверяемое метрически, и воздушная перспектива, разнообразие ходов в глубину должно быть особенно богатым. Проверка правильности перспективного построения (имеется в виду прямая перспектива) здесь в большинстве случаев просто бессмысленна. Так, в пейзаже Питера Брейгеля „Охотники на снегу» (Вена) перспектива крыш домов не подчинена принципу единой точки схода (сравним, например, левый ряд уходящих вниз и вдаль домов). Но зато богатство ходов в глубину по склонам и впадинам на земле исключительно велико: это — наклонные, соединяющие основания стволов, следы охотников, силуэты собак.
Ход вниз по склону слева подчеркнут карнизами заснеженных крыш домиков, а коньки и карнизы крыш внизу справа создают ход в другом направлении. И это — не сходящиеся параллельные ходы. Все дома слегка повернуты друг относительно друга, ходы создаются их цепями. Приблизительна перспектива прудов, пересеченных горизонталями, не метричны изгибы речки, уходящей вдаль, расставленные по дамбе ряды деревьев, дорога, ведущая к дальней деревне, и множество других признаков глубины, конструктивных элементов пейзажа — все это ходы и задержки глаза, побуждающие к рассматриванию деталей, от силуэтов охотников и дальше, и дальше. Попытка найти точки схода приводит к чрезвычайной путанице. Горизонт угадывается „где-то» у истоков речки.
Аналогично строится и пейзаж П.Брейгеля „Сенокос» (Прага) и многие другие современные ему и более поздние синтезирующие пейзажи, особенно пейзажи с высоким горизонтом. Вероятно, перед нами типичный набор ракурсных средств для синтетического природного пейзажа вообще.
Итак, вслед за слоевым построением и переплетаясь с ним, возникло линейно-ракурсное построение пространства, бессистемное в геометрическом смысле. Новый генератор глубины — ходы, создающие пространство, ходы по форме — хорошо связывался с условной моделировкой.
Моделировка темным и светлым вызывает впечатление объема, выступания и отступания частей формы (кубичности, шарообразности) даже и при отсутствии единого источника света. Мы будем называть такую моделировку условной. Это новый, четвертый признак глубины. Здесь фигура, лицо, ступни затемняются на отступающих, уходящих в глубину частях формы и высветляются иногда резкими белильными бликами на выступающих частях. И в беспредметном рисунке темное пятно чаще всего уходит в глубину, светлое выступает вперед. С нашей точки зрения каждый предмет в таком изображении кажется „освещенным спереди» и отдельно. И здесь было бы неверно думать, что „условная» моделировка светом и затемнением существовала только в средневековой живописи и невозможна в послевозрожденческой реалистической живописи, что положение единого источника света и в связи с этим — перспектива падающих теней всегда входили в арсенал пространственных средств со времени Возрождения. Напротив, в картинах раннего и Высокого Возрождения доминирует рассеянный свет. Падающие тени практически отсутствуют, а направление освещенности кажется несущественным для моделировки. Но и позднее, после открытий Караваджо, когда резкие эффекты света и перспектива падающих теней стали привычным средством, прием построения пластики и пространства без определения положения источника света сохранялся в связи с особыми образными задачами. Так, давно было замечено, что в таких картинах Рембрандта, как „Возвращение блудного сына» или „Давид и Урия», фигуры выступают из полумрака как будто освещенные отдельными сильными источниками света. Конечно, прием условной светотени трансформируется в общем образном строе.
На некоторых русских иконах XIV-XV веков, в фресках итальянского Проторенессанса — условная моделировка очень сильна. В тесной связи с ней находится тугой контур фигуры и складки по форме, сами по себе вызывающие эффект кругления. Контраст круглых форм и ломающихся складок, например, в живописи Рублева усиливает эффект лепки головы, ступни, лепки тела там, где ткань облегает тело. Но полного кругления формы условная моделировка не дает, не создает впечатления, что предмет замыкается в себе самом, со всех сторон. Она хорошо вяжется и со слоевым, слепленным пространством.
Новые задачи искусства в эпоху Возрождения потребовали системы ракурсных признаков глубины, геометрической системы, которую мы называем системой линейной перспективы. Не случайна связь ее с архитектурным пространством и архитектурными формами. Они нуждаются в метрике и согласованных искажениях форм на рисунке, таких, что все формы в системе читаются без искажения в глубоком пространстве.
Схождение ракурсных параллельных горизонталей в точке схода на горизонте, построение основной и дополнительных точек схода -все это геометрия, созданная, прежде всего, для изображения архитектуры. Параллельные линии наблюдаются главным образом в архитектуре. И развитие системы шло в связи с необходимостью целостного изображения архитектурного пространства и архитектурных форм.
Решающие вопросы ставила задача изображения интерьера. Здесь появлялись три или четыре ракурсных плоскости (пол, боковые стены, потолок). Предметы, детали пола и потолка должны были быть согласованы с ракурсными плоскостями и линиями их пересечения. Возникла проблема метрической глубины интерьера, проблема пространства мизансцены, связанной с масштабом фигур. Новым признаком глубины становится мера схождения параллельных линий архитектуры на ракурсных плоскостях. Сами по себе ходы в глубину сохраняются, но на образцах архитектуры приводятся в систему, нашедшую общеизвестное геометрическое толкование. Интересно наблюдать, как преодолеваются в Проторенессансе неувязки античной перспективы.
Необходимость выработки единой системы была очевидной уже для Джотто. Теория перспективы Пьеро делла Франческа, Брунеллески, Альберти завершала этот процесс.
К линейной перспективе Высокое Возрождение присоединило во-первых, теорию теней, возникающих от определенно расположенных источников света, теней моделирующих и падающих, характеризующих как форму предметов, отбрасывающих тени, так и форму предметов, принимающих падающую тень, и пространство между предметами (перспектива теней). Во-вторых, впервые у Леонардо да Винчи были канонизированы и такие признаки глубины, как изменение цвета с расстоянием, ослабление тона и контрастов тона, стирание деталей, размытость контуров, то есть все то, что объединяют словами „воздушная перспектива».
Со времени Леонардо были известны все признаки глубины на изображении. Но не было необходимости пользоваться одновременно всеми. Признаки глубины, выбранные для данного изображения, определяют его пространственный строй, тип пространства — один из основных факторов композиции картины.
В этом обзоре признаков глубины, так или иначе, конечно, связанных с восприятием реального пространства, не следует видеть историю средств изображения пространства, хотя некоторый намек на историю здесь есть. Нет ни хронологической, ни географической определенности. Связь с исторически сложившимися типами изображения, однако, угадывается в самой идее приобретения все новых и новых средств изображения пространства, новых признаков глубины. Подчеркну, что речь все время идет о восприятии пространства на изображении, как особом восприятии.
ПЕРСПЕКТИВА И ОБРАЗНЫЙ ПРОСТРАНСТВЕННЫЙ СТРОЙ КАРТИНЫ
Рассмотрение различных признаков глубины и вообще трехмерности на картине приводит к вопросу о системе этих признаков. Возрождение выработало такую систему как строгую геометрическую систему и назвало ее „перспектива» (линейная перспектива).
Но перспективой называют теперь также любое построение трехмерного пространства на плоскости. „Перспектива» и „пространственный строй» в этом понимании — синонимы. Считают, что существует не одна система перспективы, а несколько (ср. Э.Панофский, Перспектива как символическая форма; П. Флоренский, Обратная перспектива; Л.Жегин, Язык живописного произведения). Это вопрос не только терминологический.
Я думаю, что построение пространства на картине, не подчиненное геометрической системе, изложенной в учебниках перспективы (см., например, А. Барышников, Перспектива, Хория Теодору, Перспектива), лучше не называть перспективой.
Вместе с тем задача построения пространства на плоскости оказывается в нашей терминологии шире перспективной задачи, которой отводится решающая роль лишь в определенных типах изображения, определенных исторических явлениях, определенных мотивах (западноевропейская живопись XV-XIX вв., преимущественно архитектурные мотивы, архитектурные проекты).
Итак, будем считать, что прямая перспектива есть единственная перспектива (если не говорить о цветовой перспективе). Я считаю такую терминологию отвечающей задачам дальнейшего анализа. Я считаю нужным развести понятие „построение образного пространства на картине» и понятие „перспектива». Последняя может быть начерчена посредством циркуля и линейки, совершенно безотносительно к образным задачам искусства.
Но как же быть с так называемой „обратной» перспективой: перспективой европейского средневековья, перспективой Востока, перспективой детского рисунка? В искусствоведение прочно вошло выражение „обратная перспектива». Больше того, ценители „обратной» перспективы обрушиваются на возрожденческую „прямую» перспективу за то, что прямая перспектива дает якобы искусственную картину мира для одного неподвижного глаза с одной точки зрения. Обратная же перспектива, по их мнению, больше отвечает естественному ходу восприятия реальной картины мира, представляющему собой синтез нескольких аспектов с нескольких „точек зрения», в частности, с внешней и внутренней „точек зрения» (сошлемся снова на прим. 10).
Совершенно очевидно, что ценители обратной перспективы не понимают зависимости восприятия текучей реальной картины мира от практических задач (в том числе и от различных задач его изображения на плоскости), они находятся в плену понятия „точка зрения», заимствованного у теории прямой линейной перспективы. Обычное же восприятие реального мира не есть ни восприятие с одной точки зрения, ни восприятие с нескольких последовательных точек зрения, оно — поток, движение с яркими вспышками, отвечающими той или иной задаче, с задержками образа благодаря непосредственной зрительной памяти, обеспечивающей его целостность. Невозможно имитировать на картине этот поток. Синтез пространства на картине создается для картины и проверяется убедительностью изображения, связь которого с восприятием реального мира опосредована разными средствами изображения и соответственно разным опытом чтения изображений.
Суть дела, следовательно, не в том, отвечает ли прямая перспектива естественному ходу восприятия реальной картины мира или нет, а в том, как мы читаем пространство на плоскости при использовании лишь части механизмов восприятия пространства, суть дела в том, как мы видим изображение на основе усвоенного изобразительного опыта, разного в разных эпохах развития искусства.
И прямую перспективу могли читать как искажающую формы вещей, а „обратную» — как отвечающую их действительной форме.
Великую путаницу внесло в искусствоведение смешение прямой перспективы (и любой другой абстрактной системы изображения пространства, если бы таковая уже существовала) с построением пространства картины, образного пространства. Прямая перспектива лишь одно из средств для образного построения пространства на плоскости, она хороша и для необразного архитектурного чертежа, если такой чертеж претендует на наглядное представление о том, как будет выглядеть здание в натуре с данной определенной точки зрения.
Говоря о возрожденческой и послевозрожденческой живописи, уперлись в правила прямой перспективы и пропустили чисто искусствоведческую проблему построения пространства для образа, пространства, несущего помимо формальных связей — образный смысл. И начали во всех образцах живописи искать отступления от прямой перспективы, как будто бы образный смысл построения заключен именно в этих отступлениях.
Вместо того чтобы исходить из целого (пространственного строя, несущего образ), исходили из второстепенных и к тому же не очень хорошо документированных деталей.
Переломим привычный ход исследования пространства картины, и подобно тому как на плоскости чисто конструктивные объединения и размещения предметов в плоских простых фигурах и ритмах трактовались нами как несущие смысл, созданные не только для организации восприятия, но и для смысла (и для организации восприятия только ради понимания смысла), так и пространственный строй мы будем рассматривать исходя из его смысловой (образной) функции, в качестве носителя смысловых связей.
Образная типология пространственного строя
Пространство станковой картины существует для возможного действия, иногда строится действием и предметами и всегда ориентировано на более или менее сильное развитие в глубину. Действие, развернутое только в одной фронтальной плоскости, ограничено по своим выразительным возможностям.
Всякое построение, в частности, построение пространства в глубину предполагает расчленение и связанный с ним синтез.
Следует выделить два основных типа членения пространства в картине: 1) членение на слои и 2) членение на планы.
Членение на планы развилось из тесного слоевого пространства, где главными строящими глубину факторами были заслонение и соответствующее ему расположение предметов и фигур выше и ниже по плоскости. Пространство такого типа еще не имеет меры в глубину. Нельзя сказать, что фигуры и предметы размещаются в нем, они его создают. Здесь существует земное и духовное, одновременное и разновременное. Здесь по смыслу образа нарушаются масштабы фигур. Здесь еще нет сцены для действия. Образный смысл такого пространства — в полной свободе метафорических и символических сопоставлений.
Некоторые современные попытки возродить этот строй существенно обедняют его, превращая живопись в рекламный набор. Сохраняется плоскостнослоевая структура, но смысловые связи поверхностны. В декоративных панно любят сопоставлять теперь множество предметов, связанных лишь заслонением и положением „выше-ниже», с чисто перечислительными связями, без соблюдения планов и пространственных масштабов, с одинаковой функцией изображения и текста, с замещением текста изображением и изображения текстом. Изображение лишается своей смысловой функции. Это часто красиво. Это можно читать попредметно. Но в это неинтересно вникать. Образный смысл слоевого пространственного строя здесь не использован. Сохраняются лишь плоскостные конструктивные связи, без смыслового оправдания: почему выше? Почему больше? Почему рядом? Почему у рамы?
Впрочем, поскольку мы говорим о станковой картине и о близких к ней явлениях живописи, проблема слоевого членения пространства остается в стороне.
В европейской живописи со времени Возрождения господствует членение пространства на планы. Что же такое пространственные планы? План — это часть изображенного пространства над куском горизонтальной плоскости — земли, пола. Он завершается некоторым фронтальным построением. Если это фронтальное построение, несущее главным образом конструктивную, членящую функцию, его называют кулисой. Но часто — это фронтальные группы, организующие действие.
Пространство строится планами так, как будто фронтальный щит, иногда немного нарушая фронтальность, движется в глубину, останавливаясь и отсекая тем самым куски пространства. Конечно, планы членятся не только кулисами и фронтальными группами действия, членения подчеркиваются линейными и цветовыми разрывами, часто каждый план написан в своем цвете и обычно выдержан в своем тоне (светлоте).
Существенно, что план не может возникнуть без ходов в глубину, без ракурсов, хотя бы и слабых. Даже самый передний край земли выражен всегда как плоскость, идущая в глубину. Иначе перед нами будет лишь знак земли, фронтальная полоса, противоречащая развитию планов. Ходы в глубину служат связями между планами. Одно требует другого. Это „дополнительные» формы. Это вместе с тем -не геометрия по принципу декартовых прямоугольных координат, а образное членение предметами и для предметов, для размещения действия. Мы встречаемся с ясными планами и в перспективно построенном прострастнве итальянского Возрождения и уже в пространственном строе многих фресок Проторенессанса. Ясная расчлененность планов, раскрытость пространства предполагает как антитезу — спутанность планов. Спутанность планов нельзя отождествлять со слепленностью, характерной для слоевого типа пространственного строя и для плоскостных композиций, когда планы в, казалось бы, реальной сцене узнаются только по предметному рассказу.
Паоло Уччелло нельзя упрекнуть в непонимании глубокого пространственного строя. Он же „перспективист». Но его „Битва при Сан Романо» (Уффици) — образец сознательной спутанности планов. В сцеплениях тел воинов, коней, оружия — пространственные ходы, начинаясь у передней плоскости, дальше почти не могут пробиться. Задний план подавлен. Это — образная путаница пространства, построенная клубком тел. Сравните картину Уччелло с не менее пространственно сложной картиной Тинторетто „Битва христиан с турками» (Прадо). Там ясно расчлененные планы.
Я считаю важным подчеркнуть диалектические превращения принципа планов и богатство типов пространственного строя при членении его на планы. Геометрия картины есть образная геометрия, и конструкция всегда находит свое оправдание в образном смысле целого. Известны и образцы многоплановых построений с исключительным богатством и ясностью ходов в глубину. Существует и голландская марина XVII века, где планы слитны и кроме едва намеченных фронтальных членений, которые нельзя даже назвать кулисами, нет никаких опор для деления на планы. Это — тональное развитие до горизонта и встречное развитие неба. И пейзаж К.Моне „Поле маков», упомянутый в главе первой, хотя и делится на планы, но лишь на планы — цветовые полосы, связанные в пространственное единство чисто цветовыми „ходами». Любое менее активное отношение к построению пространства „планами и ходами» говорит только о другом типе образного строя, не нарушая сам принцип членения.
Итак, уже в Проторенессансе слои расчленились, появились глубокие планы и прежде всего выдвинулся, по-видимому, пространственный строй с развитым первым планом и слабо выраженным „продолжением» пространства вдаль. Здесь задний план — архитектурный или природный пейзаж — отвечает только ритму и членению действия. Он напоминает, скорее, закрывающий сцену занавес (план действия, закрывающая его кулиса).
Такие композиции типичны для Джотто и художников его круга. Им свойственна известная статичность. Все действие развертывается перед зрителем на первом плане. Взору незачем идти далеко, в глубину. Нигде нет намека на диагональное движение. Легко читаются ритм: фигур, симметрия. Одноплановое действие требует особой ясности и выразительности силуэтов. Второй план уплощен и плотен. Создается впечатление замкнутой театральной сцены. „Бегство в Египет» из падуанского цикла Джотто — прекрасный образец такого понимания пространства картины. В „Оплакивании» из того же цикла ангелочки на небе все находятся на одной плоскости и кажутся нарисованными на дальнем занавесе.
В интерьерных композициях из жизни Франциска (капелла Барди) пространство превращается в замкнутый с боков и сзади неглубокий ящик, за стенами которого нет другого пространства, кроме узкой полосы неба сверху, открытой для полета ангела, уносящего душу Франциска. Но эта полоса — скорее рамное завершение, чем глубокое небо. Все событие и вся его предыстория сосредоточены в неглубоком „ящике». Не чувствуется и передняя стена этого „ящика-интерьера». Он весь открыт для понимания события („Кончина»). „Несовершенство» перспективы интерьера, конечно, не нарушает строгости и последовательности пространственного строя.
Образный смысл джоттовской пространственной геометрии очевиден. Действие лишено какой бы то ни было исторической, обстановочной конкретности. Оно не просто действие — а событие, где и скупые жесты, и скупость в разнообразии характеров, аналогии в позах, одежде, лицах говорят — „пойми смысл события из самого события». Внимание зрителя сосредоточено на первом и единственном плане действия. Действие сжимается пространством „ящика». Типологически важно противопоставить, сделав исторический скачок, джоттовское пространство пространству, глубоко развитому по планам и ходам, пространству, где за первым планом открывается второй, за вторым третий. Создаются два, три пространства, иногда -два действия. Главным планом часто становится второй план, а первый приобретает значение подхода, „трамплина» к главному действию, развивающемуся в глубине. За ним открывается третий, далевой план. План от плана отделяются различиями цвета (иногда резкими), фронтальными кулисами. Но создается также ряд выраженных ходов в глубину, связывающих планы в единый — часто диагонально развивающийся поток действия.
В такой классической композиции, как композиция картины Александра Иванова „Явление Мессии», передний план не выделен специально, хотя и разработан внимательно. От фигуры мальчика, выходящего из воды, старика и „раба», обращенных к главному плану действия, — глаз зрителя должен проделать известный путь. Фигуры и направлены туда.
Пестрая толпа вокруг Иоанна — второй план — план главного действия. Действие — это слово и жест Иоанна, указывающие на медленно спускающуюся с горы фигуру Христа. Путь от Иоанна до Христа, подчеркнутый одинокостью фигуры Христа и единой направленностью к нему многих персонажей толпы, — это главный диагональный ход в глубину. Кулиса дерева определяет второй план. Кулиса, однако, не закрывает действия (она сразу же за толпой), но контрастирует своей теплой зеленью с легкими голубыми силуэтами гор третьего (дальнего) плана, где едва заметно рисуется город. Фигура Христа принадлежит переходу от главного плана к дальнему и завершает пространственную связь действия. Дополнительный ход в глубину идет от плотной толпы спускающихся иудеев до воинов, оглядывающихся на Христа.
Итак, перед нами членение на планы и диагональная связь их. Смысловая функция пространственного синтеза здесь очевидна. „Явление» — на фоне реального итальянского пейзажа. Разноликость толпы и единая направленность — подсказка смысла посредством пространственных связей. Пространство свободно для размещения действия. Ничто не сжимает его. Действие символично, но происходит в широком реальном мире.
Вместе с тем — это действительно массовая сцена. Пространственный строй логично объединяет планы общим ходом в глубину и его дополнениями. Он не переходит в жесткую расчлененность, не создает основы для искусственности действия и обстановки, а остается естественным.
Для экспозиции проблемы построения пространства планами и ходами в глубину интересно сопоставить „Явление Мессии» А. Иванова и „Крещение» Патинира (Вена).
В „Крещении» Патинира также три фронтальных плана. Главное действие — „Крещение Христа» — занимает первый план. Ствол деревца, фигуры коленопреклоненного Иоанна и стоящего по колено в воде у самой рамы Христа выделяют переднюю фронтальную зону (план). В глубине открывается второй план, также с фронтальным расположением фигур, где рассказано последующее по времени действие: Иоанн так же, как в картине Иванова, указывает толпе на приближающуюся издали фигуру Христа. Интересно, что в картине Патинира два времени, отвечающие двум планам, но одно реальное пространство. Вторая сцена отделена от третьего (дальнего) плана -плана голубых гор — кулисами: деревом слева и причудливой скалой справа. Ходы в глубину развиваются слева и справа, огибая фигуры главного действия.
Искусственность композиции в картине Патинира бросается в глаза не только в расчленении планов по разновременным сценам, но и в несвязанности сцен. Событие проходит две фазы времени- основную и второстепенную. Художник, желая выразить идею „явления мессии», считал все же главным изображение мистического акта крещения.
В картине Иванова нет символического членения плоскости. У Патинира, напротив, объединяющим фактором служит и плоскостное построение с явной символикой форм. Главные пятна образуют крест. Вертикаль креста, считая сверху, начинается в облаках указующим жестом бога-отца. И продолжается в летящем строго под символом благословения и строго над вертикальной фигурой Христа голубе на фоне вертикальной, искусственно поставленной скалы. Фигура Христа образует основание этой вертикали. Горизонталь перекрестья прочерчена слева рукой Иоанна над головой Христа и светлой группой фигур дополнительного действия и справа — подножием скалы. Геометрическая фигура (крест) членит и связывает плоскость. Пространственный синтез сочетается с протяженным во времени рассказом. Но вместе с тем четыре поля по бокам креста — это не четыре клейма иконы, связанные с главной частью лишь сюжетно. Это -синтез в одном сложном пространстве.
Построение пространства фронтальными планами — в сущности, лишь схема членения. Это остановки при нашем мысленном движении в глубину картины. Планы неосуществимы без более или менее выраженных связей между ними — ходов в глубину. Чисто кулисное построение пространства картины — выдумка. Другое дело — тип построения: построение со слабо выраженными связями между планами, построение с сильными ракурсными связями и построение -чисто ракурсное с множеством не резко выраженных планов. Надо подчеркнуть, что в характеристике пространства по планам и ходам в глубину мы не выходим за пределы абстрактной схемы. В каждом конкретном произведении пространство принимает характерную образную форму, образную трехмерную фигуру, ее внутреннюю поверхность, для которой естественны такие образные названия, как пещера, ящик, двугранный угол, чаша.
Знаменитые пейзажи Питера Брейгеля легко отнести к обычным трехплановым построениям. Однако едва ли эта формальная характеристика охватывает суть дела.
В „Вохотниках на снегу» Брейгеля можно выделить и три, и четыре, и пять планов. И все они далеки от строгой фронтальности, построены по форме зигзага, по схеме — граница плана — она же переход (ход) к следующему плану. План с охотниками и домом харчевни слева, где горит костер, развивается вниз направо. И основания деревьев и сами охотники, тяжело шагающие по снегу вниз, создают ход в глубину первого плана, который обрывается провалом вниз справа с застывшим прудом, мостиком, мельничными строениями. Здесь начинается второй план и ход в глубину зигзагом — налево. Такой же повторный ход направо мы видим в группе спускающихся вниз домов в левой части картины.
Новый план, он же — диагональный ход, обозначен перспективой катков, взятых в ракурсном ходе направо. Это самая глубокая часть земли (дно чаши). Затем поднимается долина речки, извивающейся налево вверх, дорога, обсаженная деревьями, и поселок — направо. Новой — третий план? Нет, скорее, это несколько планов и каждый приглашает к рассматриванию. И, наконец, замыкающие всю чашу земли вздыбленные горы. Слово „чаша» здесь употреблено не случайно. Перед нами именно роспись на чаше (во внутреннем пространстве чаши), замкнутое снизу и открытое взору и небу широкое пространство для размещения разнообразных пейзажных и жанровых мотивов, характерных для зимы, как ее понимает нидерландский мастер. Пространство соединяет отдельные мотивы подобно тому, как соединяются слова посредством „и», „также», „дальше», „правее», „левее», „внизу», „еще», рисуя картину жизни. В пейзаже не выдержан принцип цветового членения на планы, в нем больше цветовых переходов и повторов, чем обобщенных по планам цветовых членений. И перспектива домов, например домов, спускающихся слева вниз, больше чем не точна. Наклоны фронтонов позволяют искать точку схода в глубине чаши, как будто мы вместе с художником меряем глубину чаши и затем поднимаем взгляд кверху. Образный смысл такого пространственного строя очевиден.
Аналогично построен пейзаж Брейгеля „Сенокос» из цикла „Времена года». Чашеобразное построение большого пространства — это своеобразный синтез деления на планы и ходов в глубину. Он выливается в определенную образно-геометрическую форму. И так же как плоская геометрическая фигура объединяет и выделяет группы пятен и предметов, так и внутреннее пространство картины собирает композицию в обойму образной геометрической формы.
Поучительно сопоставление приведенных здесь пейзажей Питера Брейгеля с одним пейзажем Яна Брейгеля („Дорога на рынок», Вена). Здесь действительно три резко расчлененных плана. Первый план — гребень холма (как палуба корабля), впереди внизу повозка, фигуры путников. План завершен на гребне горы группой мощных деревьев. Это план, выдержанный в теплой гамме. Затем, как переход вдаль — второй план — зеленоватый холм и низ долины и, наконец, третий — великолепные голубые дали. Итак, три (а может быть, только два) плана.
Художник приглашает любоваться далями с вершины переднего холма вместе со спутниками, стоящими под деревьями. Детали дальнего пейзажа видны им, а зритель картины различает их с трудом. Совсем другой тип рассказа и пространственный строй, чем в пейзажах П. Брейгеля. Деревья выделяются, как кулиса, упираясь в верхний край рамы. В боковых частях пейзажа — глубокие ходы вдаль. Перед нами две пространственные формы, соединенные в одну: плоская, слегка вогнутая и вставленная в нее выпуклая главенствующая форма. В геометрии изучаются подобные седловидные формы, но, разумеется, не с образной точки зрения и в чисто геометрических, а не образно-смысловых вариациях.
„Лето» Пуссена — по теме — аналогично пейзажам П.Брейгеля „Времена года». Но тема изложена у Пуссена в рассказе совсем другого характера и потому потребовала совсем другой пространственной конструкции. Или лучше сказать так: другой тип конструкции пространства для действия был выбран как основа для другого рассказа. Пейзаж распадается на три ясных плана. Одно действие протекает фронтально на переднем плане. Боковая кулиса дерева (кулиса в собственном смысле слова), выражающая лишь членение, замыкает первый план, открывая второй — с фронтальной стеной жатвы, вдоль которой движутся фигуры второго действия.
Третий план здесь — уже несущественное дополнение. Фронтальная граница планов расчленяет пространство, как движущийся в глубину фронтальный щит, отсекая куски, нужные для данного действия. Пространство не замкнуто в чашу, хотя горизонт довольно высок.
Естественно вспомнить здесь и пейзажи русских художников на темы „Времена года», хотя пространство в среднерусском природном пейзаже скорее текуче, плавно, чем конструктивно, скорее слитно, чем расчлененно. В нашей пейзажной живописи нетрудно найти и построения с ясно выраженными фронтальными планами (таковы „Березовая роща» А.Куинджи, ГТГ; „Весна. Лед прошел» С.В.Герасимова, ГТГ) и ракурсные построения. С. Герасимов разграничил в названном пейзаже ясные фронтальные планы. Стволы берез и дуба образуют фронтальную группу, определяя главный план. В пространство дальнего плана взор проникает между стволами, главным образом слева и справа. Там пространство замыкается как исчерпание силового поля центральной групы. Напротив, у Куинджи кущи берез по сторонам создают ясное кулисно-рамное построение, открывая второй план — поляну, замкнутую новой кулисой сплошной стены берез с единственным узким прорывом к третьему плану (ступенчатая форма углубления).
А тончайший пейзаж Левитана „Весна. Большая вода» исключительно богат ходами в глубину по плоскости воды от одного ствола к другому, от основания к основанию, где переламывается ясная вертикаль ствола, переходя в зыбкую вертикаль отражения. Это система вертикалей на неправильной линейчатой цилиндрической поверхности.
В основе любого образного решения пространства картины — „для действия», „для пейзажного мотива», „для натюрморта» — лежит иногда скрытая, иногда более явная и, конечно, вариативная трехмерная геометрическая форма, внутренняя (вогнутая или выпуклая) поверхность. И понимание этой конструктивной образной формы важнее, чем констатация факта кулисного или некулисного построения, правильной или смещенной перспективы.
С характером образного пространства связано замыкание композиции в пространственных границах: внутреннее ограничение.
В этом месте обозрения типов пространства картины естественно вернуться к вопросу, поставленному во второй главе, — к вопросу о „раме» как замыкании пространственного поля конструктивными средствами самой живописи, в противоположность раме как внешнему ограничению. Там были рассмотрены, в частности, центральные композиции, подчиненные форме равнобедренного треугольника. Теперь можно добавить, что с точки зрения пространства — это образцы построения пространства как внутренней поверхности усеченной пирамиды („Поклонение волхвов» Боттичелли). Основание пирамиды выведено на картинную плоскость и естественно замыкает композицию не внешним (рамным) ограничением, а пространственной формой, по реперам которой строится сюжет.
Излагая проблему планов, мы перешли к различным формам открытого (пейзажного) пространства, разработанного в послевозрожденческой живописи, пространства, по мнению многих гонителей возрожденческого реализма, вообще не имеющего формы („окно в мир»). Протестуя против „бесформенности» „иллюзорного» пространства, теперь и небо стараются строить как твердый замыкающий свод, тяжелыми пятнами, и плоскость земли или воды — выгибать, делая выпуклой или вогнутой с явным указанием краев. Подобные построения пространства открытого пейзажа, конечно, возможны. Они могут быть созданы и не силой пятен, а расположением предметов („чаша» П.Брейгеля). Но есть еще и другой принцип создания композиционной завершенности открытого пространства, противоположный принципу вывода краев композиции на картинную плоскость. Он часто встречается в морских и равнинных пейзажах. Во многих голландских маринах XVII века пространство моря и неба вовсе не кажется произвольно ограниченным. Это — не случайная вырезка видоискателя. Если не сохраняется береговая „рамка» (или вешка на переднем плане — знак берега), то расположение лодок и парусников на втором плане или гребней волн создают распределение сил в сравнительно однородном поле такое, что края поля оказываются строго предусмотренными: нельзя шире, нельзя меньше. Даже один предмет, помещенный на нужном месте (в глубине и относительно краев картины), может создать силовое поле, ясно указывающее на исчерпание образа в пределах данного формата.
Попробуйте перемещать в каком-нибудь ласкающем глаз или, напротив, напряженном морском пейзаже единственный парусник или лодку, и вы увидите, как спокойная уравновешенность сменяется впечатлением движения, или — в другом случае — теряется динамика, напряженность мотива. Даже точка в границах кадра имеет свое силовое поле, впрочем, довольно неопределенное. Предмет же в предметном поле вступает в диалог с окружением и выявляет конструктивные и смысловые возможности (движется, реет, покоится, уходит и т.п.).
Поучителен с точки зрения организации открытого пространства венский пейзаж Яна ван Гойена „Вид на Дордрехт». Общую форму пространства создают плоскость воды и слабо выгнутый свод высоко поднимающегося неба. Казалось бы, пейзаж можно растянуть, но расположение предметов так точно найдено, что картина завершена в формате. Завершенность в формах — это рама, предуказанная изнутри.
Выше говорилось о цветовой завершенности в пейзаже Клода Моне „Поле маков».
ИНТЕРЬЕРНОЕ ПРОСТРАНСТВО. ПРОБЛЕМА НЕСКОЛЬКИХ ПРОСТРАНСТВ
Особые проблемы замкнутого пространства связаны с интерьером. Еще у Джотто и художников его круга интерьер, в котором совершается действие, часто находится в окружении открытого пространства. Изображение интерьера сочетается с изображением наружных архитектурных форм — фронтона, крыши, колонок. Часто на одной композиции — несколько интерьеров, как и несколько действий или частей действий (например, в „Явлении ангела св. Анне», Падуя, капелла дель Арена). Интерьер трактуется еще не как замкнутое пространство, а как архитектурная рамка, выделяющая и разделяющая события. Даже в флорентийском цикле из жития св. Франциска (капелла Барди) интерьер, занимающий всю картинную плоскость и ограниченный тремя стенами, полом и потолком, построен так, что мы не представляем себе его размера до места действия, занимающего первый план. Это все же скорее разрез интерьера, чем интерьер, представляющий собою внутреннее пространство здания: это — интерьерное обрамление сцены, обрамление для того, чтобы только видеть ее, обрамление, исключающее установку „мысленно войти» для соучастия, это — не развитый в глубину интерьер. Мы не мыслим его в широком пространстве монастырского здания, города. Мы сосредоточены только на событии по его существу („Кончина св. Франциска», „Явление Франциска в Арле»).
Эволюция изобразительного понимания интерьера хорошо изложена в ряде трудов, посвященных Проторенессансу, здесь нет нужды повторять это изложение.
К сожалению, при этом обращалось внимание главным образом на выработку правил прямой перспективы, очень показательную на примерах интерьера. Не замечали второй стороны проблемы, проблемы замкнутости интерьерного пространства. А впечатление замкнутости или, лучше сказать, собственно интерьерности всегда было связано с отступлением от строгих правил прямой перспективы и с совершенно особыми образными пространственными задачами.
Понимание замкнутости и величины (глубины) интерьера созрело тогда, когда искусство нашло приемы создавать впечатление присутствия зрителя в интерьере.
Сделаем снова скачок в изложении темы. В интерьерах зрелого реализма, даже лишенных полумрака, естественно уводящего заднюю стену в глубину, в интерьерах „малых» голландцев, в картинах Хогарта, Федотова чувство замкнутости интерьера, его размеры и наше присутствие в нем — существенный компонент образа. И, вопреки тому, что часто утверждают, именно в средневековой живописи и, в частности, в нашей иконе не создается чувства вхождения внутрь, скорее доминирует чувство предстояния перед священным изображением, к которому „прикладываются как к мощам». Никакая теория „множественности точек зрения» иконописца внутри изображенного пространства не может преодолеть этого непреложного чувства, связанного с сознанием святости и с самой системой ритуальных действий.
А вот разглядывая картину Репина „Не ждали», мы чувствуем себя внутри комнаты.
Чем обеспечил Репин впечатление размеров просторной дачной комнаты и нашего присутствия в ней? В раннем варианте композиции фигура вошедшей женщины сдвинута влево, три другие фигуры сгруппировались в правой трети картины. Фигуры не образуют в плане явного круга. В окончательном варианте фигура вставшей матери и отодвинутое ею кресло замыкают композицию. Полуоборот этой фигуры, ее размеры и положение кресла служат ясными знаками: это конец комнатного пространства. Все фигуры действия образуют в плане круг, как бы повторяющий формат комнаты, в которую он вписан.
Ракурсные линии половиц и отсутствие строгой перспективы в сходящихся ребрах сочленения стен и потолка создают несомненно рассчитанное впечатление простора внутри комнаты, приподнятости потолка, раздвинутости стен, больших, чем было бы при соблюдении единой точки схода, словом, — впечатление нашего знания комнаты, не связанного с определенной точкой зрения. Система „знаков» присутствия внутри комнаты не имеет ничего общего с чисто зрительной позицией. Где внутри комнаты? Вообще внутри, то рядом с матерью, то за столом, то в центре круга, но только не у рампы сцены. Если бы перспектива была геометрически точной, пространство комнаты казалось бы неестественно суженным. Если бы интерьер был „джоттовским», с сильными отступлениями от норм перспективы, он был бы неглубоким, и комната казалась бы обрезанной некоторой рампой. Впечатление нашего присутствия в интерьере создается усвоением действия, когда мы мысленно смотрим со стороны того или иного персонажа.
Для картины Репина существенно и еще одно впечатление, выраженное с редкой убедительностью. Комната находится не в городе, а „на даче». Дверь слева и открытая дверь, в которую вошел ссыльный, говорят не о городском, а о деревенском пространстве, передают особый аромат деревенского дома.
Таким образом, здесь синтезировано два пространства — малое и большое. Вполне реалистический синтез не обходится без знаков. Дверь налево и окно за открытой дверью — это знаки, какими бы естественными они не были, знаки внешнего пространства.
Два раздельных пространства по принципу открытой двери синтезированы и в „Сватовстве майора» Федотова. А в „Завтраке аристократа» Федотова угадывается — по жестовым знакам персонажа — открывающаяся или могущая быть открытой дверь.
Все это, конечно, уже смысловые ходы. Но, как говорилось, каждая конструктивная форма в картине, в том числе и форма пространства, оправдывается смысловыми связями и существует для них.
В приведенных образцах реализован синтез интерьерного и внешнего пространства, естественный и необходимый для сюжета.
Поучителен искусственный синтез двух пространств с использованием перспективных и на их основе смысловых связей в двух интерьерных композициях XVI века, хранящихся в Вене и посвященных одному сюжету — евангельскому рассказу о Марфе и Марии.
В картине Питера Артсена „Натюрморт» зритель не сразу заметит сцену, прямо относящуюся к притче: беседу Христа с Марфой и Марией. Первое и главное пространство заполнено хозяйством Марфы, его изобилием. Это — часть кладовой или кухни, в которой „естественно» расположен великолепный натюрморт. Здесь, на комоде перед окном, и часть мясной туши, и букет цветов, и скатерти у дверки полуоткрытого комода, плоды, разная утварь. На столике рядом — сладкий пирог. Все это изображено с голландской предметной ясностью и с предметным цветовым богатством.
В верхней левой части картины в проеме стены первого интерьера изображен второй интерьер с камином и сценой евангельского рассказа. У очага — Христос, положивший руку на голову сидящей женщины (Марии) в знак одобрения и обращающийся к стоящей женщине с известными словами осуждения: „Марфа, Марфа! ты заботишься и суетишься о многом, а одно только нужно. Мария же избрала благую часть, которая не отнимается от нее».
Второе пространство и едино с первым и резко обособлено, втянуто в глубину, так что первоначально мы его не замечаем. Нужен специальный интерес, чтобы разглядеть, что там, интерес менее обязательный, чем интерес к броским деталям натюрморта. Собственно, мы видим в соответствии с названием картины великолепный натюрморт в главном интерьере. Два интерьера резко противопоставлены масштабно. Второй — подавлен. Но оба объединены перспективой плиточного пола, переходящего из первой комнаты к очагу во второй комнате. И синтез, и контраст. Очевидно и смещение смысла притчи: „вот притча, а вот — реальность», любование реальностью придает смыслу притчи по отношению к буржуазному жизнеутверждению иронический оттенок.
Здесь два пространства в одном пространстве. Пространство в пространстве. Пространств — два, но одно время.
Еще острее композиция картины Иоахима Бейкелара „Кухарка» на тот же евангельский сюжет. Здесь все переднее пространство занимает фигура Марфы, нанизывающей на вертел гусей (интерьер кухни, кладовой?). Вокруг та же картина изобилия — плоды, мясо, кувшин, и сама гладкая фигура Марфы, выражающая земную красоту, — символ этого изобилия.
Сцена же с беседой Христа затиснута во второе пространство -совсем узкое, мало заметное — в правом верхнем углу картины. Там очаг, Христос, сидящая Мария и стоящая Марфа. По смыслу первопланная фигура „Кухарки» — также фигура „Марфы». Таким образом, Марфа появляется дважды. Один раз — в главном, другой — в подчиненном пространстве. И в каждом пространстве — свое время. Но пространственный синтез, несмотря на разное время, — очевиден. Только он сложнее, чем в картине Артсена. Кроме перспективы пола к сцене у очага ведут еще ступени, определяющие более высокое и удаленное положение второго интерьера по сравнению с первым, — с интерьером кладовой или кухни Марфы. Как мы видим, и эта сторона пространственного синтеза, степень подчиненности пространства, их единства, их удаленности имеют смысл.
Вообще пространственный синтез в реалистической картине, развивающий формы возрожденческого пространственного строя, только на первый взгляд кажется простым, поскольку сразу создается впечатление его естественности. На самом же деле он несет большое богатство смысловых связей, требующих внимательного рассматривания. Расчленение на планы может переходить во временные сдвиги, как мы видели на примере „Кухарки» Бейкелара или „Крещения» Патинира. По сравнению с пространственным — в плоскостном синтезе дополнительные пространства кажутся вставками изобразительных знаков в целостное изображение. Сошлюсь на „Преображение» Феофана Грека (ГТГ), где на левом склоне горы врезкой (синтез) дана группа апостолов с Христом, поднимающаяся на гору, впрочем, обведенная контуром (разделенность), а на правом склоне -врезка группы с Христом, спускающейся с горы. Обе вставки лишь обозначают последовательность действий по смыслу, не создавая пространственного единства. Если их понимать как части одного реального пространства, надо будет признать, что перед нами вход в гору и выход из нее, что нелепо.
Один из приемов сложного пространственного синтеза основан на создании второго пространства в зеркале. Прием создания второго пространства в зеркале не следует отождествлять с использованием зеркала в сопоставлении предмета и его отражения. В первом случае пространственный синтез предполагает мысленный перенос зеркального пространства в реальное, и смысловые связи покоятся на единстве двух пространств — зеркального и реального.
Во втором случае и отражение и отраженный предмет находятся в одном пространстве, и смысловые связи устанавливаются между зрительно сопоставленными оригиналом и его отражением.
Зеркало часто использовалось в живописи со времени Возрождения. Но примеры синтеза двух пространств — реального и зеркального -редки.
Здесь нас интересуют именно они. В картине Э.Мане „Бар в Фоли-Бержер» (Лондон, Институт Курто) реальное пространство ресторана изображено от стойки, за которой в центре стоит молодая барменша, до зеркала за ее спиной, зеркальное — в зеркале. Эту часть пространства, узнавая зеркало, мы представляем себе как большое пространство сзади нас, продолжающееся впереди нас вплоть до зеркала.
Узнавание зеркала создает двоение пространства, предполагает мысленный характер синтеза: синтез в воображении. И он очень важен для понимания картины.
Смысл меняется в зависимости от того, что отнести к „реальному» и что к зеркальному пространству. Считают, что молодая барменша, стоящая лицом к зрителю и залу ресторана посередине картины, отражена, кроме того, в зеркале. И там (справа) она кажется услужливо склонившейся к господину в цилиндре. Считают, что она изображена дважды, в двух разных пространствах — реальном и зеркальном.
Но что, если девушек на картине — двое, сходно одетых, но заметно разных? Что, если склонилась к клиенту вторая барменша, что и она, и господин — не в отражении, а в реальном пространстве? А отражение центральной фигуры во фронтальном зеркале, фигуры -видимой прямо, а не сбоку, по естественным законам отражения скрыто за ней?
В двух толкованиях соотношения пространств появляются разные смысловые оттенки. В первом толковании — образ девушки раздваивается. Во втором толковании — молодая барменша возвышается в центре картины как „меланхолический идол», „богиня, которая царит среди ликеров и вин и которая обречена прислуживать и доставлять удовольствие пьяным», — лучше не скажешь.
В первом толковании синтеза пространств образ барменши снижается, и контраст с пьяным, полным движения залом ослабевает благодаря показанному в картине прямому общению девушки с клиентом бара. Исчезает одиночество „меланхолического идола». Во-втором, — она отрешена от зала.
Я убежден в правильности второго толкования.
Синтез двух пространств — прямого и зеркального — не частое явление. Его результатом всегда будет расширение пространства посредством воображения, подсказанное предметной связью — „зеркало — реальность» — и появление новых смысловых связей в расширенном пространстве.
Каков бы был смысл всей позирующей группы — принцессы Маргариты и карликов в „Менинах» Всласкеса (Прадо), если бы в зеркале не были видны фигуры короля и королевы? Одно и то же пространство мысленно читается в противоположных направлениях. Маргарита должна увидеть входящую королевскую чету. Королевская чета отражена в зеркале. И мы расширяем реальное пространство в сторону, куда обращена принцесса Маргарита, ожидающая короля и королеву (пространство расширяется также мысленно и в другую сторону, благодаря фигуре дворецкого, открывающего дверь). А как представить себе действие художника? Со своей позиции на картине он видит королевскую чету, но не может видеть ее отражения. Он не видит менин в фас, в соответствии с изображением, так как находится рядом с ними. Нельзя сказать, что художник пишет себя с другой точки зрения. То, что он пишет королевскую чету, ясно по смыслу и направлению его взгляда; художник помещает себя в картине по смысловой связи в едином расширенном пространстве со своим указанным в зеркале объектом. Связь между королевской четой и менинами устанавливается также по смыслу и несет в себе толкование поведения Маргариты и менин, готовящихся к встрече королевской четы и еще не замечающих ее.
Использование зеркала, не направленного на синтез пространств, встречается значительно чаще. Функция его в чисто смысловой завязке, которая делает зеркало необходимым. Общеизвестны изображения Венеры с зеркалом (Тициан, Веласкес). Любование своей красотой в зеркале, конечно, существенная смысловая и эмоциональная связка этих картин.
Интересно использование зеркала в картине немецкого художника XVI века Ганса фон Аахена — „Шутливая пара» (Вена). Лицо красотки перед зеркалом выражает любопытство, смешанное с любованием. А ее лицо, отраженное в зеркале, выглядит смешным или смеющимся. Такова смысловая завязка, но как повернуто зеркало, если зритель видит и красотку и ее отражение, а она сама видит полное отражение? Зеркало держит старый смеющийся шутник. Его лицо вставлено между лицом красотки и зеркалом. Первоначально кажется, что вместо зеркала — прозрачное стекло. И только по смыслу мы убеждаемся, что видим отражение. Как оно туда попало, если мы его видим как будто с тыльной стороны? Мы видим почти так, как видим красотку, и совсем не так. Интересная игра смысла — шутка. Но пространство — едино. Зеркало не расширяет его, не заставляет читать пространство в разных направлениях.
ДРУГИЕ ТИПЫ ПОСТРОЕНИЯ ПРОСТРАНСТВА
Теория прямой линейной перспективы, как уже говорилось, возникла в связи с изображением архитектуры и в значительной степени для ее изображения. Это — теория построения архитектурного пространства. Уже в природном пейзаже ее значение ограничено. И очень трудно говорить о перспективе там, где пространство строится пластикой предметов и в особенности пластикой тел. А ведь во множестве сюжетных картин сплетение тел заполняет холст, и пространство возникает лишь как результат синтеза форм, их направлений и ходов между ними, оно математически непроверяемо.
Яркие образцы пространства, построенного пластикой тел, мы находим в удивительной живописи Эль Греко. Его поздний холст „Воскресение» (Прадо), так же как и многие другие, нигде не обнаруживает свободного пространства. Здесь есть и „ближе» и „дальше» но между формами нет пустот, хотя бы даже в виде густой среды.
Сами тела — это среда. Дан только позитив — пластическая форма, негатив отсутствует или сведен к минимуму. Центральную ось композиции образуют фигуры возносящегося Христа и поверженного воина. Правая нога поверженного воина почти прикасается к левой ноге Христа. Аналогичные по цвету и интенсивной лепке, они выделяются, подчеркивая центральную ось. Вокруг этой оси происходит кручение тел, успокаивающееся кверху.
В картине с трудом можно выделить три тесных плана. Первый обозначен корпусом, руками и головой поверженного воина, правой фигурой в голубой одежде и, может быть, полотнищем хоругви. Второй — почти совпадающий с первым — фигурой Христа. Третий — воинами слева и справа от него, пытающимися его удержать, и серым окутывающим облаком, которого касается малиново-розовый плащ Христа. Фигуры воинов третьего плана расположены винтообразно относительно главной оси. Ниже слева мы видим напряженное и беспорядочное кручение форм. Фигура Христа спокойна. Она освобождается от вихревого движения форм и как бы выталкивается вверх. Внизу — путаница рук, путаница выступающих в сильнейшем ракурсе ног. Слитность форм такая, что в большинстве случаев сближения их (например, ноги левого воина третьего плана и ноги поверженного воина) воспринимаются как касания. Ходы в глубину идут по ракурсам форм, а не между ними. (Ср. тень по форме правой ноги поверженного воина.) Только ходы по самим формам, и в частности по их выделенным светом частям, позволяют распутать этот вихревой поток. Нет пространства, в котором существует кручение тел. Есть пространство, созданное этим кручением (ср. Эль Греко, „Крещение», Прадо).
В характеристике композиционного искусства Пуссена, Рубенса часто выделяют линейно-плоскостные факторы. Между тем в классической картине линейные ритмы и связи неотделимы от пластической стороны построения групп, находят в нем свое обоснование. И пространство, во всяком случае его активная часть, создается пластикой как замкнутое пространство скульптурной группы или скульптурных групп в некотором нейтральном пространстве пейзажа.
Совершенно очевиден пластический принцип построения пространства внутри и вокруг „скульптурной» группы в эрмитажной картине Пуссена „Танкред и Эрминия».
Профильному положению Танкреда и поддерживающего его воина противопоставлено фасовое положение Эрминии, занесшей над Танкредом меч. Таким образом, создано замкнутое пространство между главными героями — вогнутая пирамида. Ее пространственная фигура находит поддержку в фигурах двух коней — белого и карего. Оба стоят в сильных ракурсах, образуя также вогнутую пластическую форму. Их ракурсы невыгодны с точки зрения красоты контуров, обычной для коней, введенных крупным планом в картину, но они необходимы именно в этом ракурсе как пластический „каркас» пространства. Пейзаж читается как второстепенное дополнение.
Добавим, что пластикой вещей, точнее, их групп, создается пространство натюрморта, в котором окружение, как нечто само по себе несущественное, часто носит характер нейтрального фона.
Очень жаль, что из нашей современной живописи почти исчез скульптурно построенный натюрморт, так же как исчезла группа фигур, связанная пластикой. Мы чаще встречаемся с расстановкой предметов, как пятен на плоскости, разбросом фигур, даже в батальных сценах или в плотной толпе, с единственной целью растрепать их так, чтобы показать возможно большее число разных персонажей с претензией на богатый типаж фигур, наклоненных кто вправо, кто влево, выглядывающих и заглядывающих, собранных без какой-либо пластической идеи.
Каждой образной задаче и типу образного решения отвечает свой тип пространственного строя. Повторим: не следует удивляться тому, что речь о классической перспективе занимает в этой главе подчиненное место. Собственно прямая, линейная перспектива была необходима для построения архитектурного пространства как открытой (широкой), так и интерьерной сцены действия. За пределами этой задачи применение перспективы чаще всего ограничено или даже явно подавлено.
Вступает в силу вместо правила следования законам перспективы правило непротиворечивости. Уже пластический узел тел, например кручение форм в рассмотренной выше картине Эль Греко, не может быть перспективно проверено циркулем и линейкой. Это и не рисование сквозь сетку Дюрера.
В поздних картинах Рембрандта перспективные средства также подавлены, хотя художник и не вступает с ними в противоречие. Примером может служить эрмитажное полотно „Возвращение блудного сына». Кроме очень приблизительной перспективы ступеней подиума слева и явно несущественного, неопределенного уменьшения лиц в глубине сцены (таково ли оно должно быть с чисто перспективной точки зрения — неясно), в картине нет других перспективных признаков глубины. А между тем глубина пространства построена. Неважно, интерьерное ли это пространство или пространство перед домом. „Пещера» держит внутри себя действие. Она построена светом и мраком или, лучше сказать, изображением света и мрака, отступанием и выступанием красочных пятен. Следует повторить, что освещенность понимается здесь очень своеобразно. Нет ясного положения источника света, нет поэтому и перспективы теней.
Резко выделяются из полумрака тяжелым наложением кирпично-красной краски, сильным светом и количеством деталей фигуры главного действия. Слабее вырвана теми же средствами из полумрака правая фигура. И она кажется стоящей глубже, хотя по перспективе должна находиться на одной фронтальной плоскости с главной группой. Очень сильно удалена плотной средой мрака сидящая фигура. Это уже второй план по яркости, хотя находится сидящая фигура сразу же за стоящей. И совсем в глубине тонут две другие фигуры. Никакой эффект освещенности не мог бы создать такой тяжелой душной глубины, такой непрерывности планов в малом пространстве и их слияния, такой вырванности главных фигур светом.
Рембрандтовский способ построения пространства преследует определенную образную цель и очень далек от приемов так называемой цветовой и тональной перспективы, выработанной в свое время и с другими целями Леонардо, нашедшей выражение в условной цветовой раздельности планов. Очевидна связь рембрандтовского пространства с драматизмом образа, с необходимостью изолировать внимание на лицах и жестах. Сравните с „Блудным сыном» „Давида и Урию».
Мы начали главу с установления тесной связи между предметом и пространством, между характером подачи предмета и характером подачи пространства. Этой связи подчинен и тип композиции. Цветовая и тональная перспектива, линейная перспектива и вообще принцип планов и ракурсов создают пространство для предмета, систему размещения и удалений предметов. Пространство здесь подчинено предмету. Но возможно и другое отношение между предметом и пространством. Доминирование пространства как среды, поглощающей предметы. Темная красочная паста на поздних холстах Рембрандта растворяет в пространстве (среде) контур предмета, она почти столь же вещественна, что и предметы, и разнится всюду по цвету и плотности. Если голубую даль пейзажа мы читаем как измененный воздухом цвет предмета, то полумрак и мрак у позднего Рембрандта — это уже не измененный средой цвет предмета, а сама среда — материализованное пространство.
Так мы приходим к идее цветового пространства.
Цвет как важнейшее средство живописи неизбежно взаимодействует с формами пространственного строя картины. Отдельный цвет помимо известных собственных качеств: цветового тона, светлоты (яркости) и насыщенности, будучи положен на холсте в виде пятна краски, содержит несобственные (ассоциативные) качества. Это его связи с предметным миром и его связи со сферой наших чувств и даже понятий.
Низу некоторой пространственной конструкции отвечает тяжесть цвета, верху — его легкость. Естественно укреплять конструктивные формы пространства работающими в том же направлении цветовыми качествами. Но именно поэтому возможен и диалектический спор форм: легкий низ и тяжелый верх, оправданный смыслом композиции. Различия цвета поддерживают планы. Известно, что одни цвета сами по себе отступают, другие держат первый план. Но и эти различия не стандартны. Перевернутость этих различий, вступая в борьбу с линейно построенными планами, создает новые эффекты.
В качестве связей планов через них в глубину проходят близкие цвета, рождаются отголоски главного цветового акцента. Однако и плавное развитие цвета также нередко уступает место цветовым скачкам, поддерживающим пространственные скачки или вступающим с ними в конфликт. Светлые (яркие) цвета, вообще говоря, выдвигаются вперед. Игра светлых и темных существенна, в частности, для „Воскресения» Эль Греко, где светлый узор тел составляет каркас пространственных ходов. Светлое пятно хоругви держит передний план.
Темное глухое пятно уходит, вообще говоря, в глубину „пещеры». Но если темное предметное пятно дано в светлом окружении, то первый план держит предметное пятно, светлое окружение за ним кажется сиянием.
Пространственная функция цвета в живописном развитии некоторой предметной темы может стать решающей. Тогда цвет создает цветовое пространство. Линейные и пластические указатели глубины подавляются, пространство строит цветовая „музыка»13.
В начале главы была упомянута „Сирень» Врубеля как пример решения цветового пространства. В самом деле, ни ясно выраженного линейного построения (перспективы), ни ясно выраженной пластики веток сирени, ни даже ясных заслонений — нет в этом холсте. Глубина и выступание определяются исключительно движением цвета и наложением красочной пасты.
Темная фигура в глубине куста сирени также определена только цветом, поэтому и она — лишь в плотной глубине цветовых изменений. Между тем куст сирени не кажется плоским. Цветовые ходы создают объемность куста, игру проницаемости и непроницаемости -сияют голубые и фиолетовые, отступают темно-коричневые, а за ними и вокруг них угадывается напоенная ароматом ночь.
Выразительные образцы цветового пространства принесла нам живопись импрессионистов. В частности, это даже не столько „Лондонские туманы» Клода Моне, где очевидны приемы цвето-тональной перспективы, сколько его „Руанские соборы», его „Пруды». Материал для более полной разработки темы „цветовое пространство» можно найти в моей книге „Цвет в живописи», где, в частности, речь идет и о „Руанских соборах» К. Моне из собрания ГМИИ.
Возможно цветовое пространство. Возможно и пространство, построенное движением с развивающимся глубоким уходом планов, с размещением главного действия в глубине. Но это поднимает новые вопросы, вопросы выражения движения и времени, которым посвящена следующая глава.
ВРЕМЯ КАК ФАКТОР И ЗАДАЧА КОМПОЗИЦИИ
НЕПОСРЕДСТВЕННОЕ И ОПОСРЕДОВАННОЕ ВОСПРИЯТИЕ
В. А. Фаворский был первым, кто указал на время как основной признак композиционности изображения. Вот что пишет Фаворский в статье „О композиции», возражая против отделения задач академического, „иллюзорного» рисунка от композиционных задач, задач изображения времени, движения, действия.
„Реальность воспринимается нами четырехмерно, а не трехмерно (четвертое измерение — время), и поэтому перед рисунком стоит задача изобразить время, если этот рисунок желает передать реальную действительность, а не является условным изображением препарированной действительности».
Фаворский тут же поясняет, что это значит. Все, что мы воспринимаем, движется и живет. „Скажем, мы можем относительно остановить это движение, например посадить модель в определенную позу. Но ведь мы сами во времени и, воспринимая, движемся. Скажем, мы можем сесть неподвижно и так сказать выбрать точку зрения, но эта так называемая точка зрения имеет два глаза (мы бинокулярны и следовательно как бы движение, сжатое в момент, как бы время, данное в одновременности)».
Чтобы хоть условно приблизиться к вневременному восприятию, мы должны смотреть одним глазом и механически использовать его как объектив для проектирования натуры. „… Но мы ни в коем случае не можем считать такое изображение сколько-нибудь передающим реальную действительность, так как она, то есть действительность, временная и пространственная, а здесь мы имеем дело только с пространственным изображением».
Отсюда и определение Фаворским композиции: „Одно из определений композиции будет следующее: стремление к композиционности есть стремление цельно воспринимать, видеть и изображать разно-пространственное и разновременное».
И дальше: „Стремясь к цельности изображения, я могу стремиться либо к двигательной, либо к зрительной цельности… Двигательную форму цельности мы можем назвать конструктивной формой, форму же зрительную собственно композиционной формой… Крайней формой двигательной цельности будет кино или фотомонтаж… Крайней формой композиционного решения будет станковая картина, в которой проблема конца покрывается проблемой центра, где мы время как бы завязываем узлом и где оно оценивается нами как прошлое и настоящее, прошлое, стоящее за спиной и окружающее нас, и настоящее — центр композиции, все объединяющий, в который мы углубляемся».
Интересно следующее заключение Фаворского: „.. .Чем непосредственнее и, так сказать, сырее мы пользуемся временем, как это имеет место в кино- и фотомонтаже, тем элементарнее мы организуем наш материал, и, с другой стороны, предметы, нами изображаемые, менее изменяются. И наоборот, при нашей неподвижности (подчеркнуто мной. — Н.В.) развивается чрезвычайная зрительная активность, использующая двуглазие нашего зрения, и тем самым, в попытках соединить уже не двигательно, а зрительно различные моменты, зрение дает чрезвычайно богатое изображение пространства и при этом часто нарушает статику предмета и его обычные контуры страдают. Примеры этого мы имеем в иконе, у Греко, Сезанна. Вообще говоря, все подобного рода композиции строятся на двуглазии нашего зрения, которое дает нам исключительный опыт: точки зрения, насыщенной движением, объединения и единовременности разновременных моментов».
Признание категории времени как важнейшего компонента живописи и рисунка, и в частности их станковых форм, — бесспорная заслуга создателя московской графической школы. Ряд его смежных мыслей (преимущественное совпадение композиционного узла картины с ее центром, углубление плоского поля от рамы к центру, пространственная жизнь пятна) подтвержден историей и практикой живописи и использован мною в предыдущих главах.
Но идеи Фаворского и его образные выражения сейчас принимают за догму, за неизменный текст, не понимая, что идеи эти не могут жить без развития, что представление Фаворского об акте зрения устарело, что верную идею следует очистить от вкусовых предпочтений (икона, Эль Греко, Сезанн).
Фаворский пишет об изображении времени в реалистическом рисунке. Так как реальность четырехмерна, то и рисунок (картина) должен кроме пространства и предметов в пространстве изображать время. Но сразу же возникает вопрос, что значит изобразить время на рисунке, не претерпевающем изменений (в отличие от кинокартины) в процессе восприятия? Как присутствует поток времени в единовременном, движение — в неподвижном?
Вспомним, что в кино, музыке, танце существует реальное время как время самого изложения, с его последовательностью, длительностью, началом и концом. В литературе реальная последовательность изложения вступает в композиционную игру с последовательностью и длительностью событий. В других временных искусствах налицо композиционные приемы членения времени, повторы, связывающие временные куски в целое, кульминация, зачин и концовка как знаки границ времени произведения. Конечно, кульминация как перелом между восхождением и нисхождением времени (подобно молодости и старости), начало и конец как знаки границ, перетекание фаз, связь их посредством повторов и возвратов, разрывы частей — это уже не только реальная длительность — временная координата, это элементы образного времени, но восприятие реального, непрерывного и равномерного времени остается и в этих искусствах непременной базой образного времени. Узор образного времени рисуется на канве реального времени.
Во временных искусствах присутствует реальное время, реальная длительность, реальная последовательность. Образное время строится на этой основе. Ход восприятия диктуется реальным ходом времени.
Может быть, аналогично обстоит дело и в пластических искусствах? В наши дни почти принято понимать любую художественную структуру, любой образ как процесс. М. Сапаров, в интересной статье которого многое заслуживает внимания и развития, пишет: „На пути к пониманию динамики художественной формы возвышается еще одно монументальное препятствие — непреодолимая стена, якобы разделяющая искусства на „временные» и „пространственные». Принято считать, что последние по своей природе „статичны», а их восприятие „единовременно».
Я не знаю авторов, которые думали бы, что восприятие картины „единовременно». Сапаров их не называет. Правда, говорят, что картина зрительно „одномоментна», „единовременна», то есть что мы видим на ней изображение предмета в один момент его существования, остальное же домысливаем, но видим мы, конечно, длительно, сколько хотим. Поэтому ссылка Сапарова на объективное исследование движения глаз при восприятии картины в подтверждение того, что восприятие есть процесс, едва ли нужна. Глаза движутся. Ну и что же? А видим мы благодаря этим движениям изображение неизменное во времени. Никто не сомневается в том, что восприятие есть процесс, протекающий, естественно, во времени. Но воспринимаем ли мы реальное время самого восприятия, его последовательность и какое отношение имеет (в случае картины) этот процесс к изображению времени? Вот в чем вопрос.
Й затем, видим ли мы последовательность и длительность нашего восприятия, подсказанными в самой картине, выражены ли они в ней? И можем ли мы сами заметить ход восприятия, вникая в образный мир картины? Недаром же в исследовании движения глаз при восприятии картины приходится прибегать к объективным методам. (Предполагается, что показания зрителя о ходе восприятия картины недостоверны.)
Без объективных исследований представление наше о ходе восприятия лишь повторяет смысловые связи композиции.
Вопрос о том, что значит изобразить время на картине, оказывается темным. Мало для этого ссылки на подвижность восприятия предмета. Можно сколько угодно двигаться относительно предмета, меняя точки зрения, а изображение его останется статичным. И наоборот, иконописец, пользуясь изобразительным каноном, хорошо различал на образце движущееся от неподвижного, вовсе не имея дела с реальным предметом.
Теоретики искусства (в том числе и Фаворский) не видели особенностей восприятия изображения. Поэтому для них вопрос о том, что значит „изобразить» время, не стоял открыто. Не видели всей глубины противоречий в синтезах „движение — неподвижное», „время -пространство», „пространство — плоскость», „изображение — предмет», „предмет — смысл».
Фаворский говорил лишь о двуглазии и подвижности зрения при восприятии предмета, но не о зрительном синтезе на рисунке. Однако акты зрения и их механизмы в этих двух случаях существенно различны. Обращали внимание на особую активность глаза при восприятии предмета для полноценного его изображения с натуры, на особую активность глаза, отбирающего в формах бытия „формы воздействия». Ускользала проблема восприятия изображения, для которого отбираются формы воздействия, то есть формы, открывающие в себе больше того, что они есть как простые формы бытия, ускользал, в частности, факт опосредованное восприятия признаками, выразительностью и смыслом форм. Проблемы знаковых восприятий, поставленные уже в 20-х годах нашего века, не нашли тогда ни у нас, ни за рубежом серьезного развития. Лишь теперь семиотика завоевывает на Западе широкое поле исследований, впрочем, оставаясь исключительно односторонней и формальной.
Следует различать восприятие непосредственное и восприятие опосредованное, опосредование выразительностью форм, признаками и их системами.
В самом общем смысле всякое восприятие опосредовано нашим жизненным опытом. Кроме того, человек — существо одаренное словом, способностью создавать и использовать так называемые вторые сигналы (И.П.Павлов). Непосредственное восприятие — это уже расчлененное множество чувственных данных (первых сигналов), упорядоченное узнавание предметов по признакам, их скрытым названиям. По признакам я узнаю дом, мой дом. Беспорядочное множество чувственных сигналов, и в частности зрительных, то есть вся основа непосредственного восприятия, подавляется в жизни ради выделения нужных признаков и узнавания жизненно важного в данный момент. Этим достигается, конечно, величайшая экономия в работе мозга. На хаос чувственных дат накладывается привычная, скрыто-словесная сетка.
Только художник возвращает непосредственной чувственной данности ее жизнь, освобождая от банальной общности. Но он тут же создает новую систему опосредования в соответствии со спецификой своего искусства.
По отношению к живописи непосредственно данным можно считать плоскость, ее материальную основу, края плоскости, пятна краски и их распределение, наконец, — линии как пятна и границы пятен. Все это мы можем видеть, не понимая изображения, но, конечно, понимая, что это — пятно такого-то цвета, эта линия — такая-то линия (вертикаль, кривая). Но ни пятно, ни линия еще ничего не значат, кроме того, что они есть сами по себе.
Опосредованное восприятие в собственном (узком) значении слова опирается на специальную систему опосредования — на определенный, созданный человеком „язык», например на выработанную в изобразительном опыте систему изображения (рисунка).
Существует много ступеней опосредования. Каждая из них содержит группу признаков для новой ступени восприятия. Холст, изобразительную поверхность, пятна краски, границы холста мы воспринимаем непосредственно, как реальные вещи среди вещей. Но если мы создаем на плоскости изображение, или даже только пытаемся прочесть в ее пятнах начало изображения, восприятие плоскости существенно меняется. Теперь плоскость от границ (рамы) к середине кажется неоднородной, пятно оживает (как верно заметил Фаворский), становится массой, выделяются его края. Продолжив эти наблюдения, скажем, выделяются группы пятен, узнаются объединяющие их геометрические фигуры. Распределение отступающих и выступающих групп и отдельных пятен организует изобразительное поле, повсюду возникает еще довольно неясная пространственная неоднородность. На этом уровне происходит и выделение предмета его контуром. Это — первое опосредование.
Некоторые линии и пятна на новой ступени опосредования содержат систему пространственных признаков. Раньше мы видели просто пространственную неоднородность. Теперь мы видим организованное пространство. Это — второе опосредование. На первый взгляд кажется, что и здесь мы видим пространство непосредственно. Однако восприятие реальной плоскости холста как плоскости сохраняется и во многом противоречит пространственному восприятию изображения. Бинокулярность сигнализирует минус стереоэффект (плоскостность), а видим мы глубину, объемы, точнее говоря, мы видим синтез: „плоскость — пространство».
Изображение пространства и его восприятие на картине явно зависит от уровня зрительной культуры и от принятой для изображения системы пространственных признаков. Присутствие пространства на плоскости изображения, понятое буквально, — бессмыслица. Но пространство на картине мы все же видим. И это очень важно. К сожалению, у нас еще нет терминов для различения знаков и признаков разного типа. И современная семиотика, к сожалению, в силу крайней абстрактности понятий „знак», „код», „декодирование» способствует нивелировке в понятиях „знак», „признак», „метка». Если все есть „знак», то слово „знак» лишено смысла.
Знак — и более широкое понятие, чем признак, и более узкое. Красный свет светофора — знак, но его нельзя считать признаком остановки транспорта. Сам знак светофора дан зрительно, а связь его с остановкой транспорта не зрительная, а смысловая (словесная), записанная в постановлении о дорожных знаках. На другом конце связи — не факт остановки (транспорт может не остановиться), а приказ, замещенный красным светом. Пожелтение бумаги — признак наличия в ней целлюлозы. Оно, однако, не знак химического состава бумаги. Знаком была бы метка, указывающая на сорт бумаги. Но и признаки неоднородны со стороны связей, на которых они основаны. Пожелтение бумаги — признак многозначный, ибо у пожелтения могут быть и другие причины, кроме наличия в ее химическом составе целлюлозы. Здесь признак мы видим, о наличии целлюлозы -умозаключаем путем сложной причинно-следственной дешифровки.
Признаки пространства на картине мы видим. Но в том же зрительном акте мы видим и само пространство, хотя и видим его менее определенным и неизбежно редуцированным к плоскости. Связь пространства и его признаков взята из общего зрительного опыта. Здесь, разумеется, нет смысловой расшифровки, нет и „кода» в собственном смысле слова, в основе которого всегда лежит условие, требующее исследования или знания связи. Так как пространство на плоскости мы видим, то и факт опосредования ускользает в процессе восприятия. Вместе с тем изображение пространства на плоскости -не метафора пространства (как иногда говорят), а если сравнивать с фигурами речи, скорее эллипсис. Это использование вместо полноты пространственных признаков выборочного состава признаков, достаточного для передачи целого.
Так, в изображениях определенного типа как признаки пространства сохраняются лишь заслонение фигур и предметов, заслонение одних частей фигур другими (египетский фриз), явление „фигура -фон». Заслонение — твердый признак пространственности, взятый, конечно, также из восприятия реального мира. Но там он работает вместе с эффектом от бинокулярности, вместе с другими перспективными признаками, в рисунках рассматриваемого типа заслонение работает без них и обеспечивает лишь эффект сильно редуцированного слепленного пространства („впереди — сзади»).
Но и признак заслонения, и его эффект — чисто зрительный — в самом акте зрения. И связка между тем и другим возникала в зрительном опыте восприятия реального мира и сработала в его изображении без поддержки другими признаками. Так ли мы „видим» в картине время?
РАЗЛИЧНЫЕ АСПЕКТЫ ПРОБЛЕМЫ ВРЕМЕНИ В КАРТИНЕ
Вернемся к основному вопросу главы. Видим ли мы на изображении время и как возможно изображение (выражение) времени на картине (рисунке)?
О времени в связи с картиной можно говорить в четырех аспектах: как о творческом времени, как о времени ее восприятия (последовательности, длительности), как о временной локализации в истории искусства и в творческой жизни художника, и, наконец, можно говорить об изображении времени на картине.
а) ТВОРЧЕСКОЕ ВРЕМЯ
Конечно, время — важная характеристика творческого процесса. Последовательность этапов творчества, их длительность — это временной ряд, всякий раз особым образом располагающийся в реальной временной длительности. Можно ли его увидеть, воспринимая картину? Другими словами, содержатся ли в картине зрительные признаки процесса творчества, его говорящие следы? Вообще говоря, на этот вопрос следует дать отрицательный ответ. Если не считать чисто технической стороны дела (трехслойная живопись или живопись „а-ла прима» и т.п.), процесс скрыт в окончательном продукте. Не прибегая к специальным техническим средствам, нельзя достоверно судить о наличии или отсутствии исправлений, нельзя судить о счистках и смывках, нельзя судить о числе наложенных друг на друга пятен цвета. Лишь в отдельных случаях можно судить о пятне, положенном поверх пятна, как положенном позже, но и позже только по отношению к данному пятну, а не к третьему-лежащему в стороне. Лишь иногда можно утверждать, что контур возник раньше пятна или, наоборот, сжал неопределенное пятно в ясную форму. Совершенно скрыты от нас все интервалы в творческом процессе, все длительности отдельных этапов, все время, когда художник думает, наблюдает, все процессы внутреннего созревания образа, вся его драма.
В счастливых случаях сохранились материально запечатленные подготовительные этапы работы — эскизы, схемы, этюды, варианты. По ним можно отчасти судить, как возникла данная композиция. Но в окончательном продукте — в картине — творческое время все же скрыто, — оно не выражено, а в лучшем случае отразилось в некоторых косвенных, несущественных приметах. (В нервозности наложения краски, как будто выражающей темп ударов кисти.)
Творческое время не входит, таким образом, в нашу тему, если, конечно, не считать структуру самого живописного образа процессом, путая вопросы психологии творчества с вопросами анализа картины и ее основной формы — композиции.
б) ВРЕМЯ ВОСПРИЯТИЯ
Вопрос о времени восприятия лежит, вообще говоря, также в другой плоскости, чем проблема композиции. Время восприятия со стороны длительности вполне индивидуально, в смысле же реальной последовательности восприятия не поддается учету (в естественных условиях). Картину мы видим целостно, а ее расшифровка на аналитическом этапе восприятия — это поиск смысла и композиционной схемы, которая постепенно уясняется. Не поддающаяся учету реальная последовательность восприятия подменяется обычно композиционной схемой. Композиционный расчет будто бы на последовательность восприятия есть, в сущности говоря, расчет на смысл действия или события, на определение главного и второстепенного, в какой бы реальной последовательности они не уяснялись.
Но есть и чрезвычайно общий расчет на длительность восприятия, выраженный в характере композиции. Я имею в виду картины „для разглядывания» — с многими сюжетами и с равной по плоскости наполненностью деталями, такие, как „Сад наслаждений» Босха (Пра-до) или „Триумф смерти» Питера Брейгеля (там же), и картины, рассчитанные на непосредственную броскость, такие, как „Поле маков» Клода Моне. Это — одна из возможных тем в проблеме композиции.
в) ВРЕМЯ КАК ЧЕТВЕРТАЯ КООРДИНАТА. КОНКРЕТНОЕ ИСТОРИЧЕСКОЕ ВРЕМЯ
Мы расчленяем время на календарные отрезки, годы, дни исходя из равномерности движения земли вокруг своей оси и затем из равномерности движения некоторого идеально настроенного маятника. В таком времени и произведение искусств имеет твердую локализацию, дату начала, дату окончания, начальный момент и момент, когда художник „поставил точку». В самом произведении искусства, однако, такая абстрактная локализация не находит, конечно, отражения. Авторская дата — это метка, не имеющая прямого отношения к образу. Но время есть, кроме того, многосторонний путь развития. Это -время историческое и время личной истории художника. Это время -неравномерное, с провалами, ускорениями и замедлениями, узлами, началом, кульминацией и концом.
Применительно к конкретному историческому времени мы говорим об античности, средневековье и т.п., или — в другом делении — об эпохе рабовладения, феодализме, начале капитализма, его расцвете, упадке, рождении социализма и т.п.; специально в искусстве выделяются такие, например, этапы, как Ренессанс, барокко, классицизм, романтизм, и — отдельные ветви развития: движение передвижников. импрессионизм, экспрессионизм и т.п. В противоположность абстрактному времени, конкретное время, очевидно, отражается в таком чутком резонаторе чувств и идей, как искусство. Оно отражается, конечно, и в особенностях композиции. Например — даже в отказе от композиционных задач.
Было бы поэтому вполне естественно рассматривать типы композиции исторически. Но тут же пришлись бы столкнуться с национальными особенностями и перевести, таким образом, исследование на обычный историко-искусствоведческий путь. Без теоретического изучения композиции исследователь на таком пути будет лишен аналитического оружия и связанной с анализом терминологии. По моему глубокому убеждению, теория и история искусства должны развиваться параллельно. Конечно, имеегся в виду теория отдельных искусств, а не общая эстетика. Сейчас теория живописи отстает, и это задерживает преодоление историками исторического эмпиризма и игры красивными словами неопределенного смысла. Данная работа не привязывает типы композиции и ее отдельные элементы к историческому времени, хотя эта связь в ряде вопросов достаточно очевидна.
Композиционные задачи меняются и в творческой истории отдельного художника. По ним можно судить с большей или меньшей степенью определенности о времени создания картины. Локализация картины в творческой жизни художника несомненно отражена в картине и, конечно, не только в композиции, но и во всех элементах „языка» и содержания. Данная работа обходит и этот биографический аспект связи композиции картины с временем, как и аспект исторической локализации.
Итак, остается коренная проблема главы, проблема изображения времени и значения изображения времени для композиции картины.
Основной тезис, подлежащий развитию в этой главе, гласит: изображение времени на неподвижной картине сложно опосредовано: 1) изображением движения; 2) изображением действия; 3) контекстом изображенного события (контекстом картины); 4) изображением среды события.
Вопрос об изображений в живописи и скульптуре движения относится к числу вопросов, постоянно занимавших умы теоретиков искусства и художников. Изображение пространства на плоскости кажется меньшим чудом, чем изображение движения в неподвижных линиях и пятнах рисунка. Конечно, слово „чудо» говорит о сложности вопроса, в основе которого лежит открытое противоречие: „движение в неподвижном». Противоречие может быть разрешено лишь в результате специального анализа особенностей восприятия изображения. Такого анализа еще нет. А между тем укоренилось мнение, что вопрос достаточно ясен.
Со времени известных высказываний Родена считают, что изображение движения основано на синтезе двух разных его моментов (фаз). Эту мысль повторял В.Фаворский. Мы встречаем ее в модернизированном контексте у М.Сапарова в упомянутой выше статье „Художественное произведение как структура». Наконец, Н. А. Дмитриева прямо говорит: „Можно было бы дополнить примеры Родена еще многими аналогичными, но в этом нет необходимости: эти понятия утвердились в теории искусства».
Роден объясняет, в частности, эффект „летящего галопа» в картине „Дерби в Эпсоме» Жерико. Он считает, что в изображении скачущей лошади на этой картине соединено два момента движения: 1) отталкивание от земли задними ногами и 2) распластывание корпуса и передних ног, когда задние ноги должны были бы уже, как показывает моментальная фотография, быть подобраны под живот. Ни один из последовательных кадров моментальной фотографии не создает впечатления галопа. А лошади в картине Жерико „действительно скачут, — говорит Роден, — и вот почему: глядя на них сзади, мы прежде всего видим удар задних ног, посылающий корпус вперед, потом лошадь вытягивается и, наконец, передние ноги приближаются к земле». Роден, очевидно, связывает изображение движения с предуказанной последовательностью в восприятии галопа, с раздельным восприятием его моментов („Мы прежде всего видим удар задних ног, потом…»). В реальности или на изображении? Однако мы не видим ни в действительности, ни на картине Жерико раздельных моментов движения. Мы видим само целостное движение.
Апелляция к моментальной фотографии ничего не дает для решения проблемы изображения движения.
Кинопленка механически вырезает из конкретного потока времени отдельные моментальные фотографии, не связанные с характером движения, к тому же такие, что вычленить их зрительно из общего потока мы не можем. Но именно на слиянии их, как известно, основано в кино впечатление движения, его непрерывности, отвечающей реально воспринимаемому движению. Кино напоминает стереоскоп, заменяющий двуглазие. Скорость движения киноленты согласована с „частотой мельканий» сетчаточных образов от отдельных кинокадров. В восприятии реального движения мы не видим отдельных механически вырезанных картинок („прежде всего — потом»), не видим их и в кино. Все сопоставления с моментальной фотографией поэтому фальшивы, фальшивы, конечно, и аргументы критиков Жерико. Но и защита Жерико Роденом не затрагивает сути дела.
Мало того, что временная ось в конкретном восприятии времени разбивается не механически, на равные интервалы, а на запоминающиеся фазы, выразительные в том или ином смысле, фазы, в которых выражено движение формы, фазы — субъективно длительные, и переходные (по Лессингу), исчезающие, невыразительные. Перед теорией синтеза разномоментного всегда стоит вопрос, какие моменты взять для синтеза. Ведь синтез разновременного на рисунке остается пространственным синтезом, синтезом в неподвижных линиях. Поучительно как раз сравнение с восприятием движения в кино, которого Роден не знал. Зрительный синтез моментов движения в кино есть синтез любых моментов, лишь бы соблюдалась частота кадров. В картине, если синтезировано разновременное, то выбор моментов или фаз движения для синтеза и составляет суть проблемы. А утверждение правильности выбора заключено не в процессе восприятия реального движения (что мы видим раньше, что позже), а в эффекте от готового изображения.
Вопрос, очевидно, переносится на восприятие изображения. И это тот же вопрос, что и вопрос о выразительности одной фазы движения, концентрирующей в себе динамические потенции, устремленность формы или ее неустойчивость. В объяснениях Родена снята главная проблема, проблема восприятия изображения, восприятия времени в „единовременном». А она всплывает вновь и вновь.
Наличное в действительности движение мы видим непосредственно, мы видим его скорость, его направление. Оно сопровождается обязательно и таким непосредственно видимым признаком, как перемещение движущегося предмета относительно других предметов. Точкой отсчета при этом становится наблюдатель. Мы способны воспринимать непосредственно и длительность движения, пользуясь субъективной меркой и в обобщенных характеристиках.
Движения на изображении мы непосредственно не видим. Мы воспринимаем его по системе неподвижных признаков. Если мы действительно различаем разные фазы движения в одном изображении -это будет один из признаков движения, но не единственный, а, скорее, исключительный.
Согласимся, что в „летящем галопе» соединены два разновременных момента движения. Хотя зритель, незнакомый со спорами о движении и времени на неподвижной картине, конечно, не видит этих моментов, он видит целостное изображение коня в стремительном галопе, и это его убеждает. Быть может, синтез разновременного на рисунке создается и действует подсознательно? Ссылка на подсознательное — удобная форма избежать объяснения. Но есть и ясно видимые признаки движения в летящем галопе. Вот они: все четыре ноги оторвались от земли. Корпус, шея, голова и ноги распластались в узкую форму, направленную вперед. Тяжелая масса тела изображена, тем самым, легкой. Впереди нет преград.
Обратим внимание на сопоставление с полетом птицы, содержащееся в названии „летящий галоп». Оно оправдано зрительной аналогией с полетом птицы. О „метафорической» связи здесь говорить естественнее, чем о синтезе разновременного. Метафору полета мы понимаем, она укрепляет смысловую связку между контурами изображения и характером изображенного движения. Разумеется, здесь возникает и сложно опосредованное впечатление скорости движения.
Однако мы знаем и другие не менее убедительные изображения стремительного галопа. Вспомним рисунок Врубеля к словам Лермонтова „Несется конь быстрее лани». Стремительное движение здесь, может быть, даже еще выразительнее благодаря динамике, напряжению, даже тяжести форм. Какие разновременные моменты движения объединены здесь? Без киносъемки этого не узнать. И трудно думать, что Врубель видел эти предполагаемые моменты для изображения — один момент за другим.
Что же есть на самом изображении? Каких видимых признаков добивался Врубель? Все четыре ноги коня, как и в „летящем галопе», оторвались от земли. Ноги не распластаны, но вместе с корпусом, вытянутой шеей и головой образуют слитную динамическую форму, направленную несколько по диагонали. Пространство впереди свободно. Припавший к коню Синодал слился с корпусом коня в один силуэт. Отлетающие назад одежды подчеркивают стремительность и направление галопа. Но конь не „летит», а скачет. И легко себе представить цоканье его подков о камни.
Что убедительнее?
В двух типах изображения есть общие признаки. Оторванность от земли, вытягивание частей силуэта в одну цельную форму, признаки направления, свободное пространство впереди. Но характер движения разный.
„Летящий галоп» — эта древняя форма изображения, конечно, не единственная и даже не преобладающая в истории живописи. Чаще мы встречаем другой тип изображения галопа — также традиционный. В русской иконе галопирующий конь опирается задними копытами о землю, чтобы оттолкнуться, передние ноги подняты и либо распластаны, либо слегка согнуты. В левой группе воинов нижнего ряда иконы „Битва новгородцев с суздальцами» (XV в., ГТГ) галопирующие кони все изображены по этой схеме. Между тем движение выражено убедительно.
Правда, кони „скачут», а не летят. Кони новгородцев наскакивают на суздальцев. Аналогично изображение галопирующего коня, например, в иконе „Чудо Георгия со змием» (XIV в., ГРМ). Тот же тип движения мы видим в изображении галопирующих коней на многих других иконах русского средневековья. Он был каноническим. Попутно заметим, что в „Битве новгородцев с суздальцами» — кони суздальцев падают (задние ноги подогнуты, корпус подан назад). Какие моменты движения здесь объединены? Разве можно предположить, что кони и здесь нарисованы именно так, благодаря перемещению зоны восприятия во времени (сначала скок передних поднятых ног, затем — согнутость задних ног)?
Естественнее исходить из смысла действия, выраженного всей суммой внешних признаков и их многоплановых связей. Суздальцы тоже наскакивают, но, побежденные, падают. Скок и падение составляют одну фазу, которую смысл сюжета расширяет в обе стороны времени (скачут — в галопе, лежат — поверженные).
Обратимся к другой эпохе — XVII век, Нидерланды.
Целую серию движений коня в профильном изображении мы находим у Иеронима Босха в средней части его триптиха „Сад наслаждений» (Прадо). В верхней части хоровод всадников, движущихся вокруг водоема, справа — группа скачущих всадников по типу иконного изображения: с вытянутыми задними ногами на земле и поднятыми, также вытянутыми (лишь слегка согнутыми) передними. Затем, после интервала, открывающего путь галопу этой группы, — длинная вереница всадников на конях, медведе, свинье — движущихся рысью. Затем у поворота — шаг, и, наконец, остановка. В нижней части хоровода снова начинается движение. Очевидно, пространственный ритм хоровода связан с характером движения в каждой группе и дает дополнительные признаки для восприятия его скорости в каждом звене. Значит, общее построение „хоровода» также несет здесь признаки движения и времени.
Н.А.Дмитриева писала, что примеров роденовского толкования способа изображения движения можно найти сколько угодно. Но, дело, очевидно, не в числе примеров (это не метод исследования вопроса), а в расширении поля исследования, в поисках разных признаков движения на рисунке и, может быть, связей движения с образным развитием сюжета в целом.
В „Битве при Сан Романе» Паоло Уччелло (Уффици) белый конь в центре композиции вздыбился, осел на задние ноги (передние подняты). Движение коня воспринимается как следствие поражения копьем выбитого из седла всадника. Конь остановлен. Но проделаем следующий эксперимент. Вырежем коня из композиции и поместим его не в центре битвы, а в центре свободного поля. Уберем копье, пронзающее всадника, и самого всадника. Словом, исключим изображенную ситуацию. Впечатление от движения коня изменится. Теперь конь скачет, правда, скачет тяжело в соответствии с тяжелыми формами корпуса и ног. Конь отталкивается с большим мышечным напряжением задними ногами от земли и вот-вот вытянет корпус вперед. На картине мы „видим» другое движение, изображенное тем же силуэтом. Восприятие движения опосредовано в картине Уччелло не только характером силуэта, но и смыслом изображенного действия. Связка выглядит так. Смысл действия: столкновение всадников в галопе. Действие: правый всадник поражен, конь остановлен, копье препятствует движению коня вперед. Характер изображенного движения: конь вздыбился, осел на задние ноги. Движение — назад. Восприятие движения здесь опосредовано всем изображением, с его сложными композиционными связями, системой признаков разных уровней.
Итак, факт синтеза разновременных фаз реального движения, если даже он может быть проверен, сам по себе не обеспечивает убедительности восприятия движения на картине.
Скачет ли на картине Уччелло конь вперед или оседает назад? Форма силуэта двузначна, и ответ на этот вопрос дает не синтез разновременного в одной фигуре, а вся изображенная ситуация. Именно связь характера движения с ситуацией делает проблему времени как фактора композиции столь важной.
Вопрос о видимых признаках движения не имеет однозначного решения. Вместо универсализации счастливо истолкованных отдельных случаев следует обратиться к широкому анализу разных композиционных решений.
Намечу, в качестве начала систематизации в этой неисследованной области, несколько групп признаков движения, его характера, направления, скорости.
Поскольку картинное поле есть поле, замкнутое рамой, естественно поставить вопрос о связи изображения движения с положением движущегося предмета в картинном поле относительно рамы.
Рама неподвижна и движение предмета относительно ее образует борьбу контрастирующих сил. Тема расширяется на контраст в изображении движущихся предметов с неподвижными. Отсюда и развитие контраста, распространение контрастных сопоставлений на трехмерность изображения (задний план как неподвижный, ход в глубину и его выделение движением). Конкретные темы контраста неподвижных и движущихся предметов — это действующий человек и неподвижные вещи, камни и омывающий их поток воды, возмущенные вихрем кроны деревьев и их укоренение в земле, созданное присутствием человека стремительное движение уличной толпы и неподвижные глыбы домов.
Во второй главе говорилось о естественной для восприятия картины близости композиционного узла к оптическому центру поля. Поле картины углубляется к центру. На этой тенденции углубления поля по направлению от рамы к центру основано большое количество центральных композиций. Рассматривая эти композиции, мы видим, что движение в центре поля либо успокаивается, либо, напротив, достигает максимума. К краям рамы оно чаще всего успокаивается, подчиняясь неподвижному контуру рамы — рама останавливает движение.
Таким образом, поле картины разбивается на зоны: зону зарождения и остановки (исчерпания) движения у самой рамы (край композиции — „круговая концовка»), активное движение может сохраниться лишь в предметах, пересеченных рамой (нарочито случайная концовка); зону развития движения и зону композиционного узла, где движение либо успокаивается, либо приобретает наибильшую активность. В последнем случае либо происходит острое столкновение движений, либо динамика общего движения выражена наиболее ясно.
Конечно, следует учесть и разницу в положении композиционного узла относительно центра поля. В ряде картин узел композиции смещен к краю и замыкает движение. В моем анализе не содержится никакого рецепта. По смыслу действия в „Поклонении волхвов» Боттичелли (Уффици) в центре композиции движение успокаивается. В „Сдаче Бреды» Веласкеса оно впервые возникает в центре. В „Дерби в Эпсоме» Жерико — достигает в центральной зоне максимальной активности. Но всегда важно чувствовать динамические потенции положения на холсте, поддерживаемые другими признаками движения.
О том, что близость к раме движущегося предмета „задерживает» движение, очень ясно рассказал Суриков, пришивший, как известно, довольно широкую полосу внизу холста „Боярыня Морозова». Раньше сани „не шли». В завершенной композиции видно, что сани „идут». Что они уже прошли некоторый путь, видно и по колеям, прочерченным полозьями в рыхлом снегу. Признаком движения становится и только что возникший свежий след (фактор времени).
Сани в картине „Боярыня Морозова» движутся по диагонали в глубину — тоже типичный прием усиления движения, связанный с перспективой предмета. Бежит мальчик. Рядом с санями идет княгиня Урусова (ее фигура наклонена по направлению движения — знак движения). Все это, конечно, поддерживает впечатление движения саней. Но сильно действует и контраст — черная вертикаль правой руки Морозовой с символом двуперстия — устойчивая неподвижная форма в центре композиции, перекликающаяся с неподвижностью толпы у краев картины (символический отзвук: „меня увозят, но вера моя тверда и остается с вами»).
Совсем другое время, другая страна, но, аналогично, группа охотников в пейзаже Брейгеля „Охотники на снегу» несколько отступает от рамы. Видно, что охотники оставляют следы, показывающие только что пройденный путь. Охотники движутся по пространственной диагонали, в глубину. Небезразлична расстановка их фигур и с точки зрения перспективного уменьшения. Они наклонены, ноги тяжело оседают в снегу. Это все характеристики движения. И не приходит в голову вопрос о том, могла ли быть у ближнего охотника так отставлена его правая нога, которую он вытягивает из сугроба, или здесь соединены два момента движения. Зато впечатление движения группы охотников подчеркнуто неподвижностью деревьев, образующих своими силуэтами единый сложный ритм с силуэтами фигур (контраст — аналогия). В целом действует сложная система признаков, связанная со всей ситуацией.
Существенно для конструктивных предпосылок движения и его направление. Направление к раме (у рамы) или к предметной преграде воспринимается как замедление, даже как остановка. Пространство между движущимся предметом и неподвижной преградой, сжимаясь, оказывает сопротивление движению. Для восприятия ускорения и легкости движения пространство впереди движущегося предмета должно быть свободным. (Ср. сказанное о движении коня в „Битве при Сан Романо» Паоло Уччелло.)
Из разных направлений движения наибольшей динамикой обладают диагональные движения, особенно если это диагональное движение в глубину или из глубины. Так в конном портрете принца Бальтасара Карлоса (Прадо) Веласкес изобразил коня скачущим по диагонали на зрителя, конечно, для того, чтобы показать принца не в профиль, а в три четверти. Ракурс коня усиливает впечатление быстрого галопа.
Поучительны трудности организации холста для передачи движения снизу вверх — взлета, медленного „вознесения». Здесь ни о каком соединении моментов движения, очевидно, не может быть и речи, ибо „вознесение» не предполагает изменения силуэта. Но передача именно такого движения может составить цель композиции.
На холсте Эль Греко „Воскресение» (Прадо) выделена светлым тоном и рисунком центральная вертикаль. Ее составляют — фигура поверженного стражника внизу и спокойная, удлиненная фигура возносящегося Христа с белой хоругвью. Левая ступня Христа отделена от правой ступни поверженного стражника небольшим интервалом пустого темного пространства. Зрителю кажется, что интервал этот увеличивается. Стражник падает вниз: его плечи распластались у нижнего края картины. Христос, напротив, таинственно, без усилий, без опоры, поднимается вверх. Пространство над ним — небо. Представим себе, что Христос касался бы ступней поверженных тел или других твердых форм, что возможно в соответствии с рисунком ступни, представим себе, что не было бы пустого интервала между его ступней и ступней правой ноги поверженного стражника, тогда два стражника второго плана, пытающихся поразить Христа, успели бы это сделать. В картине же Христос явно, возносясь, ускользает. Очевидно, расстояние между ступнями Христа и упавшего стражника -признак движения („вознесения»).
В картине Греко поразительна аналогия трех рук — руки Христа и рук непомерно вытянутых кверху фигур справа и слева, рук, поднятых ладонями вверх, как бы поддерживающих или сопровождающих движение. Существенно и направление взоров этих фигур — вверх, выше головы Христа, как если бы он был уже там. Спутанный клубок форм внизу этого вертикального холста (2,5 х 1 м) отягощает низ. Простая по силуэту вытянутая вверх фигура Христа, белая хоругвь и пурпурно-розовая ткань делают верх легким. Несомненно, и динамика цвета участвует в построении движения. Таким образом, перед нами снова сплетение разных признаков движения, связанных с изложением сюжета на картине.
Трудно добиться эффекта движения саней даже по диагонали. Много труднее добиться изображения взлета предмета по вертикали.
Предмет всегда будет казаться падающим. Силы тяготения противодействуют взлету не только в реальности, но и в зрительном эффекте на изображении.
Если эффект трехмерного пространства на картине опосредован чисто зрительными признаками и мы говорим, что видим его на картине, то эффект движения опосредован разнородными признаками и связями, зрительными и предметно-смысловыми и эмоциональными. Можно ли сказать поэтому, что движение на картине мы просто видим? Скорее, мы воспринимаем его в целостном акте зрительного анализа и понимания. В таких мотивах, как „Воскресение» Эль Греко, понимание становится главным компонентом восприятия движения.
По-разному связаны со скоростью и легкостью движения острая и тупая форма, вытянутая по направлению движения и сжатая в комок, птица и оторванная ветром ветка, конус, стоящий на острие, и покоющаяся на земле своим основанием пирамида, тяжелое и легкое, тяжелое и легкое по природе предмета, и „тяжелое» и „легкое» по форме и по цвету. Но, как уже было сказано, да простят мне искусствоведы, ослепленные „странностью» зеркального отображения картины, нельзя понять, как связано с впечатлением легкости и скорости движения направление его слева направо или справа налево. Восприятие движения картины здесь представляется зависящим от самого внешнего сигнального слоя, помимо смысла изображения, а именно от привычного движения глаз при чтении буквенного текста.
ДЕЙСТВИЕ И ВРЕМЯ
Изображение движения изолированного предмета, если это не стандартное изображение, переходящее с рисунка на рисунок, во многих случаях многозначно. Его характер уясняется в группе, объединенной единым движением. Шагающий охотник в шляпе с ружьем на картине Брейгеля может казаться стоящим на месте и даже приседающим. Но движение всей группы вниз определяет его движение как тяжелый шаг. В движении — и ритмическое разнообразие и единство действия.
Если на фреске Джотто в капелле Барди „Франциск отрекается от отца» фигуру отца изолировать от сдерживающих его порыв фигур граждан сзади и сбоку, отец Франциска будет казаться идущим. Но смысл группы и всего действия переносит порыв из зоны активного движения вперед в зону сопротивления движению назад (отец Франциска старается вырваться).
В сложных динамических композициях вообще невозможно понять характер движений, не уяснив смысла всего действия.
Вопрос о характере движений в такой конструктивно мощной и сложной композиции, как „Битва христиан с турками» („Похищение Елены») Тинторетто из коллекции в Прадо, поставит зрителя в тупик.
Нас покоряет выразительность и ясность основной диагонали, выделяющей главную группу фигур (левую группу). Она построена откинутым корпусом и левой рукой венецианского воина-вельможи, левой ногой прекрасной пленницы, завершается вытянутой стопой воина, расположенного у нижнего края рамы. Диагональ усиливают параллельно направленная масса корпуса, нога и рука воина, натягивающего тетиву арбалета.
Подчиненная встречная диагональ построена фигурами турок в правой фелюге и прочерчена шестом, которым воин-турок отбрасывает в воду цепляющегося за борт фелюги воина. Два нижних треугольных поля — план главного действия — выделены драматическими сопоставлениями тяжелых красных, синих, коричневых, желтых. Это полноцветные пятна. За ними, под обрамляющими верхний край картины парусами и реями, как за рамой, развертываются второй и дальний планы, написанные почти гризайлью, легко по цвету и запутано по форме. Они кажутся несущественными, а вместе с тем — в них ключ к толкованию целого.
Дальний план расшифровывается, если обратить внимание на венецианского всадника, поражающего турка. Конь турка пятится назад, круп его опускается в воду. По смысловой аналогии то же происходит и в группах левее. Турецкая конница сброшена в воду. На берегу над ней — античные головы наседающих коней.
По смысловой аналогии мы толкуем и путаницу битвы на дальнем плане за лентой воды.
Но каковы же движения главных фигур первого плана? Непосредственно ясно лишь движение венецианского воина, стреляющего из арбалета. Упор ноги и наклон головы для прицеливания говорят о том, что тетива еще только оттягивается, рука еще движется налево. Тетива не спущена.
А ясно ли движение центральной фигуры? Что, воин-вельможа сталкивает прекрасную пленницу, выдергивая из-под нее ковер, чтобы облегчить ладью, или он, напротив, пытается завернуть венецианку в ковер, прикрыть, втащить на ладью? В первом варианте его левая рука движется вперед, во втором — оттягивается назад. С точки зрения динамики изолированно взятой фигуры оба варианта возможны. А воин внизу, поддерживает ли он пленницу или стаскивает вниз? И сама пленница — упала ли она, захватив ковер рукой и пытаясь укрыться и удержаться, или падает и левая рука ее опускается бессильно вниз, поворачиваясь в плече? Натягивает ли матрос, изображенный в левом верхнем углу, парус или падает, потеряв равновесие? И в турецкой фелюге — турок у правого края картины, гребет ли он, посылая фелюгу справа налево, или отталкивает цепляющихся за нее тонущих?
Узлы движений распутываются, если вспомнить, что христиане (венецианцы) победили, сталкивают турок в воду. Они не теряют в панике, а увозят добычу. Главная фигура венецианского воина своим резким движением говорит о похищении (и освобождении) пленницы, об увозе добычи. Значит, его левая рука и весь корпус движутся в направлении справа налево. Рука сгибается. По контрасту левая рука воина, стреляющего из арбалета, параллельная руке вельможи, напротив, движется в направлении слева направо, сгибая дугу арбалета. Воин-вельможа прикрывает и оттягивает упавшую венецианку, а воин внизу помогает ему, удерживая женщину от соскальзывания. Значит, матрос натягивает парус, чтобы парусник мог оторваться от турецкой фелюги. А турки пытаются опрокинуть толчком своей ладьи венецианский парусник. Турок у края картины гребет, посылая свою ладью вперед, справа налево. И вот уже вздыбился парусник, накренился. Все движение на переднем плане развивается справа налево, развивается шумно, и трудно предугадать его исход.
Что же делает нагнувшийся турецкий воин с шестом в руке? Как движутся его руки? Необходимо заметить, что в сложных столкновениях не все движения должны быть однозначными. Важнее часто сплетение движений, беспорядок, выражающий общую динамику события.
Конечно, распутывание композиции никогда не происходит в целостном акте восприятия. Сюжет кажется воплощенным непосредственно в краски и формы, независимо от системы признаков, кажется, что и движение мы видим непосредственно. Кажется, что именно „видим» в собственном смысле слова. На самом деле впечатление движения опосредовано сложными связями, от чисто предметных до смысловых. Даже в элементарном случае изображения движения -„летящем галопе» — синтез фаз движения (если он есть) сопровождается пониманием аналогий.
Итак, видим ли мы движение на картине или видим и понимаем, опираясь, в частности, и на смысловые связи? Приведенный выше анализ не оставляет места для сомнения в том, что верно — второе. И элементарные примеры синтеза разных фаз движения, например пресловутый пример с движением сабли на рюдовской статуе маршала Нея, говорит не только о фазах движения, но и о смысле, который придан этому движению в композиции.
Разумеется и время движения мы воспринимаем опосредованно. Непосредственно мы могли бы воспринять время нашего восприятия, если бы восприятие времени легко двоилось в сознании и, глядя на картину, мы знали бы достоверно, в какой последовательности и какое время мы смотрим. Но мы воспринимаем время события на картине, образное время, понимаем его как канву действия и движения, и другого времени, реального времени восприятия, не замечаем. Сколько минут стоим мы перед этой картиной?
КОНТЕКСТ СОБЫТИЯ. РАСШИРЕНИЕ ВРЕМЕНИ
Движение становится однозначным и по общему характеру и по отдельным свойствам, если оно выражает действие. А определенность действия создается контекстом события. В разговоре об изображении движения мы шли выше по традиционному пути. Но Может быть, правильнее было бы сказать, что ничто в картине, в том числе и в особенности движение, не имеет определенности и смысла вне контекста и что восприятие движения на картине принципиально контекстно. (Заметим, что и восприятие пространства на картине контекстно, поскольку оно строится для предметов и предметами, для действий и действиями.)
Анатомически правильное построение движения в рисунке не обязательно создает для зрителя эффект движения. Это лишь один из признаков движения. Правильная анатомия движения может быть воспроизведена и на основе неподвижного позирования. Принципиально важно, что, работая с позирующей натуры, можно выразить и ситуацию движения, и просто только ситуацию позирования. Ситуация же определяется контекстом, контекстом развития действия или контекстом позирования как своего рода действия. В последнем случае рисунок изображает неподвижное положение, в котором, в какой-то степени — в меру неустойчивости позы — предвидится возможность движения, но куда и откуда, часто остается скрытым. Скрыто в неподвижной позе и время.
Несомненно, динамические анатомические рисунки Леонардо и Микеланджело выражают движение. Но какое? Предвидятся ли дальнейшие фазы движения? Воспринимаем ли мы здесь по части целое? В идеальном случае искусство способно соединить в изображении отдельного движения прошлое и будущее. Но реально мы всегда имеем дело с контекстом движения и воспринимаем движение, особенно в картине, в значительной мере благодаря контексту.
Свойство некоторой фазы движения выражать длительность — это лишь один из признаков движения. Соединение двух фаз движения в одном изображении также лишь признак движения. Контекст может лишить и этот признак силы. Достаточно поместить, скажем, „летящий галоп» в необычный, например в карусельный, контекст, подобно тому как аналогичные сдвиги контекстных связей осуществляют сюрреалисты.
Кстати, именно сюрреализм учит нас, как меняется характер движений, если они из реального контекста переносяся в контекст фантастический, ирреальный, с нашей точки зрения — из связности изобразительного текста в бессвязность.
Определенность действий, а отсюда и движений создается в конце концов сюжетным контекстом. Ясность сюжетного контекста („рассказа», картинного изложения сюжета) оказывается более мощным признаком, чем анатомическая правильность. Это можно увидеть, в частности, на образцах иконописи, рассматривая житийные клейма икон или иконы, посвященные праздникам. Не только об искусном совмещении фаз движения, но и о простой анатомической правильности иконописец не заботился. Движение он рассматривал как звено в цепи действий, понятное в контексте. Последовательность и смысл действий, связь действий составляли здесь главную задачу. Например, в клейме иконы XV века „Никола в житии» — „Казнь трех невинно осужденных мужей» (Дмитров, Краеведческий музей) цепочка действий образует на доске полукруг. Справа — неподвижно стоящие в ожидании казни мужи, в центре — казнимый муж, согнувшийся покорно в ожидании удара. Над ним слева — палач, поднявший меч и готовый нанести удар. Руки казнимого связаны вервью, которую без усилия держит палач. Вервь выделяет полукруг цепочки действий. Наверху справа Никола также без видимого усилия останавливает меч. По развитию сюжета ясно, что Никола именно останавливает меч и меч уже не сверкнет над головой казнимого. Ясно, что палач опустит вервь и казнимый распрямится. Движения понятны и определенны благодаря определенности действий, а действия — благодаря развитию сюжета.
Конечно, всегда существует и обратная связь — понимание целого как системы элементов: действий — как связи движений, события -как связи действий. Но в этой обоюдности и заключается природа контекстного восприятия. Анатомически все движения на клейме четырехчастной иконы „Никола в житии» многозначны. Никола едва касается меча, но он оттянул его до горизонтального положения (смысл действия: „остановил без усилия»). Значит, палач уже не замахивается, а между тем положение его ног говорит, как будто, о максимуме взмаха (ср. „Казнь Параскевы» на иконе XVI в., Дмитров, Краеведческий музей). Поза казнимого могла бы быть и позой „предстояния» и позой приношения, если бы не связывающая руки вервь, придерживаемая палачом (она должна была бы быть натянутой, но ситуация казни ясна и так).
Еще одно сопоставление, показывающее зависимость восприятия движения как определенным образом направленного действия от контекста. В двух изображениях Сретения рассказано о передаче младенца Иисуса Марией Симеону и Симеоном Марии. В иконе „Сретение» из музея в Новгороде (XV в.) Симеон, стоящий на ступеньках храма, принимает у Марии младенца. Движение идет слева направо.
Младенец будет принят и внесен во храм по смыслу ситуации. В клейме же четырехчастной иконы из Русского музея (XIV-XV вв.) Мария принимает младенца у Симеона, очевидно, в храме у престола. Движение ее протянутых рук, такое же традиционно молитвенное, как в деисусном чине и как в иконе из Новгорода, здесь воспринимается по контексту действия как принятие младенца из рук Симеона (движение справа налево).
Выше были подвергнуты анализу с этой же точки зрения образцы сложной композиционной живописи Ренессанса. Контекстность восприятия движения там сочетается с анатомической построенностью, иногда с анатомическими преувеличениями (Эль Греко), усиливающими эффект. Первоначально кажется, что движения человека или коня на ренессансной и послеренессансной картине понятны и вне контекста. На самом деле анатомические или иные признаки — это лишь дополнительные опоры, необходимые для полного „правдоподобия» эффекта движения. В основе и здесь лежит контекст: взаимодействие людей, людей и вещей и, следовательно, смысл рассказа (предметного или символического). Средства изображения отдельного предмета, движения всегда сохраняют известную свободу для восприятия. Контекст завязывает узел движений, превращая движения в действия, действия — в компоненты события.
Композиционная задача выражения времени решается во многих картинах посредством изображения движений. Не время как независимо воспринимаемый поток или отсчет для измерения движений, а движение с его видимыми признаками — носитель (выразитель) времени. Но, очевидно, возможна и композиционная антитеза. Если предметы и участники события по смыслу его застыли, неподвижны, решается задача выражения времени в изображении неподвижного. В первом случае время выражено в признаках движения, подсказывающего пройденную фазу и будущую фазу, откуда и куда. Во втором случае фаза расширяется во времени вследствие ситуации, вызвавшей неподвижность участников события. Внешняя неподвижность становится одним из признаков длящегося внутреннего действия.
Вообще следует различать внешнее и внутреннее действие. Внутреннее действие не только носитель времени, но и носитель длительного времени, подчеркнутого внешней неподвижностью. Конечно внешнее и внутреннее действие не исключают друг друга. Но можно выделить типичные решения, с преобладанием или исключительностью того или другого.
В картине Ге „Царь Петр и царевич Алексей» (ГТГ) Алексей неподвижен, неподвижен и Петр. Но развивается внутренний диалог между ними. Пауза во внешнем диалоге, в диалоге движений очевидна. Петр ждет ответа. Алексей отвернулся: не может ответить. Длительность времени воспринимается здесь в контексте ситуации, выраженной в картине, но также и в задержанности движений.
Важно обратить внимание и на скупость обстановки в картине Ге (ее богатство отвлекало бы от восприятия внутреннего действия). И особенно обратить внимание на расстояние между фигурами, ведущими внутренний диалог. Оно выражает, косвенно, длительность молчания. Ни начало, ни конец движения, ни „откуда», ни „куда» — не предуказаны. Внутреннее действие — это, конечно, переживания участников сцены, их психология, рассказанная в выражении лиц, жестах рук, в позах и непременно в контексте события.
В картине Репина „Не ждали» главные фигуры остановились. Но еще сохранились в их позах следы движения. Фаза, в которой развиваются чувства и реакция матери и вопросительное ожидание ссыльного сына, — не мгновение, но и не фаза движения, это тоже длительность. Однако в паузе подсказан контекст движений (сын остановился, мать — встала ему навстречу, отодвинув кресло), подсказана предыдущая фаза (открытая дверь, направление движения сына, отодвигание кресла), подсказана и последующая (сын кинется к матери, мать обнимет его). Внутреннее действие переходит во внешнее и продолжается в нем. Время паузы во внешнем действии здесь короче, чем в длительном молчаливом диалоге на картине Ге. Оно вставлено в контекст ясно выраженных последовательных движений. Наконец, ; в рассмотренной выше картине Тинторетто „Битва христиан с турками» развивается внешнее действие, целиком выраженное в цепи движений. Прицеливание арбалетчика, оттягивание воином-вельможей упавшей пленницы, ее поднятая рука и запрокинутая голова, напор турецкой фелюги и т.д., словом, все, что изображено на главном плане действия, соединено в одной фазе, перетекающей непрерывно в смежные фазы. Для широкого раскрытия внутреннего действия (переживаний) здесь нет пауз. Внутреннее действие здесь исчерпывается типичными переживаниями в данной связи.
Чем сильнее в картине мотив внутреннего действия, тем шире развернуто время. И может быть, именно в неподвижности человека на портретном изображении лучше всего передаются не только его характер и душевный строй, но и расширенное время, внутренняя жизнь: происхождение, деятельность, идеи, судьба.
Связывая намертво время как композиционную задачу с изображением движения, обедняют жизнь, в которой внешнее, „видимое» движение (перемещение) — лишь вариант движения.
Тот факт, что предметы движутся, или мы, рисуя композицию, движемся относительно предмета, и тот факт, что мы соединяем фазы движения или аспекты предмета в рисунке, не обеспечивают решения композиционной задачи — выразительной передачи движения и времени в картине.
Восприятие времени на картине принципиально контекстно. Компонент понимания (осмысливания времени) может базироваться и на явной неподвижности, на застылости вещей и фигур.
Время как задача композиции — это в значительной мере проблема создания контекста. Задача решается исходя из целого, из смысловых связей „рассказа». Все остальное — лишь необходимые опоры для решения этой задачи.
Если на портрете в контекст входят лишь лицо, осанка, поза, характеристика рук, то своеобразие контекста заставляет нас искать внутренний ход жизни, широкую ленту развития времени за пределами изображения.
Итак, время на картине дано не на чисто зрительном уровне, а на уровне понимания и опосредовано не только внешне — фазами движения, но и изнутри — смыслом действия в контексте события (рассказом). Следовательно, обычное представление о картине как изображающей один момент события, что было бы необходимо на чисто зрительном уровне, необязательно. Прекрасным подтверждением этому может служить анализ композиций Сурикова, чрезвычайно чувствительного к вопросам передачи времени.
Обратимся к картине Сурикова, выражающей общее стремительное движение.
Если мыслить лавину воинов на картине Сурикова „Переход Суворова через Альпы» как взятую, схваченную взором в один реальный момент времени, то результатом героического спуска с гор могла бы стать только свалка, катастрофа. Но мы понимаем, благодаря всей системе построения картины, что перед нами не пролог свалки, а стремительное движение, направляемое разумной волей полководца.
Стремительность движения и его упорядоченность подсказаны всей системой конструктивных связей композиции.
Плоскость картины делится на три диагонально направленных параллельных пятна. Слева светлое пятно ледопада с фигурой Суворова наверху. Динамический силуэт остроугольной пирамиды подчеркнут черными просветами скал и трещинами в ледяном панцире. Посередине картины — лавина воинов сливается с горой в одну диагональную темную ленту. Вспышки белого в лавине воинов, ствол спускаемого орудия, силуэты скользящих вниз солдат, белые пятна снега на горе подчеркивают все ту же диагональ. И третье светлое пятно справа наверху, выделяя форму темной ленты, в пятнах снега содержит намеки на то же диагональное движение. Три полосы на холсте такого формата сами „падают» вниз в силу гравитационных особенностей в восприятии верха и низа картинного поля.
Ледяная скала с фигурой Суворова выходит на первый план и составляет прочный уступ образного пространства. За ней сверху донизу из глубины открывается впадина, желоб, по которому идет основной поток движения. Наконец, за темной горой дальний, но замкнутый план перевала, замкнутое пространство, отвечающее по цвету выступу скалы слева.
Три пространственных зоны здесь можно назвать планами, если не представлять себе планы как слои, параллельные плоскости картины. На картине Сурикова — косые планы, планы, построенные по динамическому принципу: слева направо — выступ, желоб, запад. Образная структура пространства, удобная для размещения действия и подчеркивающая его динамику. Лавина армии Суворова движется по желобу.
Обратим внимание на ее движение с точки зрения выражения времени.
Внизу картины солдат, придерживая шляпу, стремительно скользит вниз. Кроме положения рук и обращенного в пропасть испуганного лица, нет других признаков движения. Но его силуэт пересечен рамой картины, и создается впечатление, что он падает, скользя в бесконечно глубокое пространство за рамой (эффект рамы). За ним полоса снега — пространственная цезура. Второй солдат, повторяющий путь первого, скользит не так быстро. Солдат рядом с ним упал, задерживая движение. Артиллерист справа на том же уровне склона сдерживает орудие. Между стремительно скользящим вниз передним солдатом и этой группой — не только пространственная цезура, но и явное различие в скорости движения, а следовательно, и пауза в нем. Первый солдат сейчас скатится за раму, а расположенная за ним группа не догонит его.
За группой и упавшим солдатом поток снова расчленяется. Начало новой группы определяет фигура солдата в красном мундире — самое цветное пятно картины. Смеющийся солдат и его сосед обращены лицами к Суворову. Барабанщик за ними слева ступает, согнув колени и откинув корпус, стремясь удержаться от скольжения. Эта группа движется явно еще медленнее. И совсем медленно подходит основная масса армии, сливающаяся вдали с темным пятном горы.
Явное замедление скорости движения создает пространственные разрывы и делает мало естественным представление об одномоментности движений и поз. Одномоментность картины движений никак не выражена. Напротив, все сделано для того, чтобы поток движения понимался как длительный и неравномерный.
В фигурах картины, если не считать Суворова, почти нет активных жестов и открытых собственных движений. Доминируют позы сдерживания. Только контекст определяет характер и темы движений. Если бы, например, кадр с фигурой второго из скользящих вниз воинов изъять из контекста картины, воин смотрелся бы просто как сидящий на снегу, а если повернуть кадр на 90° — как упавший. Движение выражается и строем пространства, и формой пятен, и общими признаками события. Движение подчеркивает и главная контрастная сюжетная связь.
Конь Суворова остановлен над пропастью, уперся одной ногой в выступ скалы, уперся, правда, еще неустойчиво — в переходной фазе. Но он именно остановлен. А поток людей движется мимо остановившегося полководца, направляющего поток. Его веселый взгляд встречается со взглядом смеющегося солдата в красном мундире. Это ободряет, вносит элемент юмора в драматическое действие. Встреча взглядов полководца и солдата, может быть, почти мгновенна. Но жест и поворот головы Суворова воспринимаются как длительность, относительная неподвижность перед движущейся лентой людей. Армия проходит перед ним. По смыслу — это вовсе не одномоментное впечатление зрительного аппарата. Суриков строил видимый смысл.
Отдельные движения, позы и их цепи, вероятно, невозможны с точки зрения пресловутой одномоментности, но они и не выражают одномоментности.
Одномоментность как факт выражения — это особая частная задача. Ее решает, например, Фрагонар в своей картине „Поцелуй украдкой».
Сурикова с его эпическим мышлением интересовало широкое построение времени в длительном, неоднородном, многомерном потоке.
Время в картине связывают с изображением движения. Но время в картине, как было сказано, вовсе не связано с движением однозначной связью — если время, то и движение. Отсутствие внешнего движения иногда даже яснее выражает длительность, медленное течение времени.
Персонажи картины „Меншиков в Березове» неподвижны. Меншиков сидит в тяжелой шубе, положив ногу на ногу. Чтобы изменить позу, ему потребовалось бы усилие. И нет этого усилия. И нет впечатления, что положение ног и корпуса означают конец фазы недавнего движения. Меншиков сидит долго, не изменяя позы. Тяжелая рука лежит на колене. Выражена именно эта предметная связь: „рука тяжело лежит», а не „он кладет или положил руку на колено». Во взоре и положении головы временщика нет признаков направленности на какой-либо предмет реального окружения, нет и признаков начальной или заключительной фазы поворота головы. Но есть выражение длительных, тяжелых дум. Меншиков смотрит внутрь себя.
Младшая дочь в черной шубке прильнула к отцу, — точнее, сидит у его ног, прильнувши к нему. Она смотрит также внутрь себя, отрешенно от окружения: это значит, что она прильнула к отцу надолго и не только что. Недоумение и скорбь переходят в чувство отцовской защиты.
Почти черное пятно шубки вместе с темным пятном фигуры Меншикова собирают цвет картины в узел неподвижности — едва различимы нюансы — в противоположность живому, богатому движению цвета в других полотнах Сурикова.
Сын, сидящий дальше по кругу, опирается головой о правую руку. Тоже — поза сосредоточенной неподвижности. Взгляд неподвижен и направлен неопределенно. Старшая дочь, опершись локтями о стол, нагнув голову, читает книгу. Это — также ситуация, предполагающая неизменность позы, ситуация длительного чтения. Огонь лампады не колеблется, неподвижен. Значит, в тесной избе нет движений. Застылость читается и в скудном свете, проникающем через обмерзшее окно.
Теперь попробуем приложить к тому, что мы видим на картине, обычную теорию изображения времени — представление о выразительной одномоментной фазе, зрительно схваченной художником, представляющей собою срез в потоке времени.
Это выглядело бы так. Меншиков запечатлен в профиль, сидящим на первом плане у стола. Он положил ногу на ногу, а тяжелую руку опустил на колено. Синхронно младшая дочь застигнута прильнувшей к нему и повернутой лицом к зрителю. Сын — синхронно же взят в мгновение, когда его голова опирается о руку. Старшая дочь в то же мгновение застигнута за чтением. Все связано в одной точке времени, в одной выразительной фазе. Убедительно это? Нет! Мгновенный срез как чисто зрительный синтез, лишенный временной протяженности, не открыл бы нам длительности и богатства внутреннего действия.
Что же, спросят меня, значит, персонажи картины изображены в разные моменты времени? Тоже -нет! Сами понятия „момент времени», „одномоментность» здесь не применимы. Персонажи изображены неподвижными и в длительном потоке времени. Это кажется противоречивым, если иметь в виду синтез только на зрительном уровне, но это вполне естественно и необходимо, если иметь в виду, что восприятие времени на картине происходит на уровне понимания.
Б. Р. Виппер в статье, помещенной в юбилейном сборнике Музея изобразительных искусств имени А.С.Пушкина, говорит об объемном времени и о наличии разных одновременных действий в нем. Таким образом он остается на позиции единого среза времени, реализованного в картине.
До сих пор речь шла о признаках неподвижности в картине и, соответственно, о выражении длительного времени в плане внутреннего действия. Рассматривались отдельные фигуры. Решающую роль во временной структуре картины, однако, играет понимание всей сюжетной ситуации.
Семья всесильного когда-то временщика расположилась вокруг стола в тесной избе. Кольцо фигур разомкнуто на фигуре читающей дочери. Читающая обращена к трем другим участникам сцены. Она отделена пространством, выделена светлым пятном окна, нарядным цветом кофты. Она читает вслух в кругу семьи — такова изображенная ситуация. Остальные слушают. Меншиков слушает, но не слышит. Медленно развиваются его тяжелые, сильные мысли. Младшая дочь и слышит и не слышит. Отрешенность, обида и скорбь затемняют для нее смысл чтения. Слушает сын, но и его сознание двоится между текстом книги и думами о будущем.
Неподвижность героев сцены оказывается хорошей основой для выражения внутренних действий (переживаний) и их времени. Как во многих сюжетных картинах, мы видим здесь построение с целью показать разнообразие и единство отклика на некоторый „зачин», и притом — отлика не мгновенного, а длительного. „Зачином» (причиной) отклика служит чтение. „Не слышать» — тоже отклик.
Достаточно очевидно, что внутреннее действие нельзя воспринимать на чисто зрительном уровне. Зато на уровне понимания, по множеству признаков мы читаем внутреннее действие (думы, гнев, скорбь, мечту), расширяющее время на прошлое и будущее, и пространство — за пределы тесной избы.
О построении движения в картине „Боярыня Морозова» говорилось много. Особое внимание уделяли движению саней и диагональной композиции. Обычно приводился рассказ художника о подшитой снизу полосе холста, „чтобы сани шли». Возможно, что само увеличение белого поля внизу холста усиливает впечатление движения саней. Но очевидно также и то, что сильнее стали при этом выступать (стали длиннее) и следы борозд в рыхлом снегу — признаки пройденного пути. Пройденный только что путь заключает в себе время движения. Но величина пути — лишь один из признаков в сложном контексте признаков, выражающих движение саней. Сани слегка качнулись влево. Это типично для движения саней по неровной, взрыхленной поверхности. Вровень с санями идет княгиня Урусова, отставленную ногу которой мы видим. Она наклонилась в движении. Идет впереди Урусовой оглядывающийся мальчик. И его фигура наклонена в движении. Слева бежит мальчик, догоняющий сани. Сани -только часть потока движений, важнейший, но не решающий конструктивный мотив.
Поймем развитие потока времени, исходя из всего контекста картины.
Если „Переход Суворова через Альпы» можно назвать картиной внешнего движения, а холст „Меншиков в Березове» — картиной внутреннего действия в неподвижном кольце фигур, то холст „Боярыня Морозова» прочтен на сопоставлении внешнего движения и отклика на него в неподвижной толпе. Эпизод увоза боярыни и зреющая в толпе, в ее отклике — буря.
Композиция разделена диагональным движением саней. Правое крыло ее широко развернуто. Здесь собрана толпа сторонников. Сани медленно движутся. Ближние к ним фигуры вовлечены в движение. На правом плане — коленопреклоненная старуха нищенка и юродивый сопровождают взглядами и жестами движение саней. Юродивый отвечает двуперстием на двуперстие раскольницы. Ответный жест определяет основную связь между боярыней и правым крылом толпы. Второй, главный ряд толпы неподвижен. Девушка в золотом платке, конечно, не кланяется, как написано в некоторых анализах, а печально склонила голову, прощаясь. Странник с посохом и пожилая женщина в парчовом платке стоят неподвижно. Дальше любопытные подростки смотрят, держась за ставни окна. И они неподвижны.
Сопровождающие фигуры вовлечены в движение. Дальше — внешние движения затухают, переходят в отклик на жест и слова боярыни. Здесь зреет социальная буря. Наконец и активный внутренний отклик переходит в простое созерцание, любопытство. У каждого действия -свое время. Морозову увезут. Сопровождающие уйдут, а внутренняя буря не кончится, социальный конфликт будет жить в широком историческом времени. Суриков сумел это показать, в частности, построением волны движений.
Интересно, что Морозова неподвижна в санях. Ее жест скован. Она долго будет держать прямо поднятую руку в знаке двуперстия.
Она спазматически впилась левой рукой в раму саней. Черная вертикаль. Черная горизонталь. Черная схима. Черное неподвижное пятно -и в белом профиле монахини выражена та же внутренняя буря, что и в толпе ее сторонников.
Застылость морозного утра. Застылость жеста раскольницы и отклик на него, затухающий в отдалении. И неумолимое движение саней. Ее увозят. Но эпизод превращается в событие. Я не буду развивать тему анализом левого крыла толпы с фигурами злорадствующих врагов — представителей церковной власти. О Сурикове говорилось много и обстоятельно, начиная с известной статьи Максимилиана Волошина и кончая капитальной монографией В.С.Кеменова. Моей задачей было вписать анализ трех выдающихся картин Сурикова в контекст важной и до сих пор не решенной теоретической проблемы. Возможно, что моя попытка страдает односторонностью, что в ней заметен сильный нажим на построение сюжетного контекста. Но ведь мы часто превращаем анализ построения сюжета и его развития во времени — в простой пересказ.
КОНКРЕТНОЕ (ИСТОРИЧЕСКОЕ) ВРЕМЯ
ВНЕИСТОРИЧЕСКОЕ ВРЕМЯ. ПРОБЛЕМА ЕДИНСТВА ВРЕМЕНИ
В современной станковой сюжетной картине, построенной в традициях реалистической живописи XIX века, время события понимается и трактуется как конкретное историческое время. Художник стремится вложить сюжет в современные событию „предлагаемые обстоятельства».
Так строится, конечно, не только собственно историческая картина („Боярыня Морозова», „Утро стрелецкой казни» Сурикова), но и любая картина, восстанавливающая реальный контекст события („Крестный ход в Курской губернии» Репина, „Допрос коммунистов» Иогансона, „Интернационал» Г.Коржева).
Важность вопроса о создании исторического контекста на сюжетной картине самоочевидна. Однако развитие этой темы не входит в план настоящей книги, оно потребовало бы специальной главы.
В связи с проблемой изображения исторического времени возникает более общий вопрос.
В картинах европейского Возрождения и позже, даже еще в XIX веке, исторические темы, темы давних событий и темы легенд часто излагались в обстановке (вообще в контексте) времени создания картины, времени художника. Так трактовались постоянно библейские и античные темы у Мазаччо, Мантеньи, Боттичелли, Рафаэля и далее -у Рембрандта, Веласкеса и даже у А. Иванова и Ге. Заключали ли в себе такие переносы времени особый смысл? Были ли они композиционно существенны?
Несомненно, А.Иванов в „Явлении Христа народу» стремился к исторической достоверности обстановки и одежд. Он не мыслит свободного переноса евангельского рассказа в современность. Но смысл его картины, тем не менее, определяется именно этим переносом, или, точнее, переносом на внеисторический контекст. Кроме римских воинов на заднем плане справа, ничто не говорит о I веке нашей эры. Одежды слушающих проповедь Крестителя подходят для любой страны арабского востока в широкой ленте времени, типаж идеализирован. Жесты и позы толпы составляют классическую гармонию, вместо естественной разбросанности и шума.
Что же сказать о „Возвращении блудного сына» Рембрандта, о рембрандтовском „Святом семействе» (Гос. Эрмитаж) с его выраженным голландским интерьером, о „Данае» Рембрандта с барочными аксессуарами спальни? Рафаэль чувствовал себя совершенно свободным от исторической перспективы в картине „Обручение Марии» (Брера), помещая главные фигуры на широкой лестнице, ведущей к ренессансному храму-ротонде. Пейзажи в картинах Мазаччо, итальянский пейзаж в картине Мантеньи „Успение Марии» (Прадо) — все это яркие примеры переноса времени и места действия. Хотели ли этим переносом художники подчеркнуть внеисторическую сущность события или картина служила также и поводом для выражения современных представлений о красоте архитектуры и пейзажа, художественный смысл переноса один — обобщенность времени, идеализация, отрицание реального исторического времени сюжета.
С отсутствием задачи выразить реальное историческое время связана и свобода соединения различных времен в одной картине, явное нарушение классического правила „единства времени».
На стр. 110-111 приводились образцы голландской живописи XVI века как примеры соединения двух пространств в одной картине — холст Питера Артсена на тему известного евангельского рассказа о Марфе и Марии и холст Иоахима Бейкелара на ту же тему. Но в этих картинах существуют и два времени. На первом плане картины Артсена великолепный натюрморт с мясом, хлебами и утварью -типичный голландский интерьер кладовой, несомненно написанный с натуры. Во втором пространстве у камина — евангельская сцена, сцена другого времени, перенесенная в XVI век. Еще яснее два времени выражены в картине Бейкелара, где Марфа присутствует дважды — крупным планом в голландской кухне и — намеком — во втором пространстве у камина, где к ней обращается Христос. Второе пространство и здесь — часть голландского интерьера.
Можно ли назвать такое соединение времен антиреалистическим, ведь эти картины все же основаны на обычном перспективно-пространственном синтезе? Или свобода в распоряжении историческим временем — вполне закономерное следствие намерения художника выразить внеисторический смысл легенды в переводе на время художника (так было, так ли теперь?), не переходя на язык отвлеченных символов, то есть оставаясь в границах реалистического строя?
Возможности композиционных решений, составляющих на картине разные потоки времени, следует искать и в наши дни. Вот известный образец. В „Обороне Петрограда» А.Дейнеки (ГТГ), под железнодорожным перекидным мостом шагают на фронт — в бой — красво-гвардейцы (движение слева направо). По мосту в противоположном направлении беспорядочно бредут с фронта раненые.
Совершенно не обязательно представлять себе дело так, будто движение по мосту и под мостом происходит синхронно.
Перед нами — два разных потока, в каждом из них — свое действие. Они объединены сюжетом и изображенным пространством. Время же едино только в более общем смысле. Перед нами — не одна фаза, а обобщенное сопоставление фаз в разных потоках. Но время здесь все-таки конкретное, историческое время, выраженное и в сюжете и в предлагаемых обстоятельствах. Это-реализм. Построение времени -важная композиционная задача. И, в частности, именно поэтому она не сводится к задаче изображения движений и действий. Время в картине выполняет более общую и глубокую образную задачу. Образная функция времени наряду с образной функцией пространства определяет весь строй картины, существенно модифицирует ее смысл.
Как мы видели, наряду с образным характером исторически-конкретного времени, образный смысл имеет и перенос времени. Трактуется старая легенда. А предлагаемые обстоятельства — пейзаж, архитектура, одежды, типаж — несут явные признаки современности. Смысл переноса в обобщении смысла легенды. Во многих случаях между легендой и ее, казалось бы, „нелепым» современным выражением чувствуются современные события, историческое время, современные люди, замаскированные временем легенды. Современники художника их узнавали. Между событием легенды и современными предлагаемыми обстоятельствами скрывается современность, приобретающая в такой „фигуре изображения» (по аналогии с фигурами речи) обобщенный, переносный смысл.
Особый образный смысл имеет и внеисторическое время, время, для которого „когда» не имеет значения. Пусть даже легендарное событие локализовано во времени в соответствии с текстом легенды, в ее изобразительном толковании могут быть исключены все признаки исторического времени, как затемняющие и умаляющие общечеловеческий смысл события.
Такая трактовка времени — вовсе не исключение, не эпизод в истории живописи. Она безраздельно господствовала в европейском и русском средневековье, где предлагаемые обстоятельства событий не только условны, но и в своей условности — строго каноничны. Полукруглые троны, всегда по рисунку одинаковые ножки тронов, немасштабные входы в здания, повторяющегося рисунка, часто без самих зданий, ступенчатые горки, предписанные каноном одежды и даже — предписанные вариациями по местным школам краски. Конечно, иконописец выражал в иконе внеисторический смысл. Относительно конкретное время присутствует лишь в последовательности легенд (в соответствии с библейским текстом), и в самих действиях, поскольку они составляют сюжет.
Но и Возрождение создало выдающиеся образцы фресок и картин на темы мифов и библейских легенд, для которых вопрос „когда?» не имеет значения или, точнее, имеет значение лишь во внеисторическом легендарном времени („первый день творения», „последний день творения», „крещение», „казнь Крестителя»).
Легенду о крещении Христа А.Иванов пытался трактовать в историческом времени. Но идея выразить „вселенский» и вневременной смысл события удержала его от бытовизма „предлагаемых обстоятельств». В.Поленов, в отличие от А.Иванова — на первый взгляд, следуя ему, — трактует библейскую легенду о грешнице как бытовую сцену — и притом без модернизации, насколько это возможно — в историческом времени.
В „Крещении» Патинира — пейзаж фантастический, но толпа слушающих Иоанна Крестителя во втором пространстве и втором времени (в верхнем левом углу картины) носит явные черты, признаки времени художника: черная шляпа одного из слушателей, алебарда воина, женские фигуры, как будто взятые из сцены пикника. Свобода распоряжения временем не привела ни к явному переносу легенды в новое время, ни к выражению внеисторического времени. А вот вертикальный холст Эль Греко „Крещение Христа» (Прадо) трактует ту же легенду вне исторического времени. „Предлагаемые обстоятельства» на этом типичном для художника вертикальном холсте переносят событие в мифологический план. Земное на холсте существует в контексте небесного и отделяется от последнего только красной тканью, которую держат пять ангелов. Один ангел спустился на землю между обнаженными фигурами Христа и Иоанна и обращен к небесному царству. Между двумя мирами — и прямая связь, и аналогия „вихревого» строя, и контраст. Совершенно отсутствуют какие бы то ни было указания на конкретное время. Для обстановочных признаков вообще нет места на этом тесном холсте. Вместе с тем холст полон, насыщен движением.
Выше говорилось о другом вертикальном холсте Эль Греко -„Воскресение». Такое же стесненное в композиционных границах сплетение обнаженных тел в нижней части холста, обнаженная фигура возносящегося Христа в верхнем темном „абстрактном» пространстве. И здесь — негде расположиться признакам исторического времени. Только круглый щит и меч левого, пытающегося нанести удар воина да голубая, струящаяся кверху одежда человека с поднятой рукой, расположенного у правого края картины, могли бы служить признаками конкретного времени. Но их характеристика явно подавлена сплошным сплетением обнаженных тел. Время трактуется как внеисторическое время, событие приобретает тем самым вневременной смысл. А между тем трудно найти картину так полно насыщенную движением, движением — в легендарном времени, изъятом из реального хода жизни.
Образно (изобразительно) одинаково возможно как движение вне конкретного времени, так и время без конкретных движений. Не жизнь с ее потоком изменений, а пребывание, не динамика, а статика. И это также композиционная задача выражения времени.
Различие между движением и пребыванием, между ходом времени в движении и ходом времени в статике легче увидеть в различных трактовках пейзажа. Пейзажи Рейсдаля, голландских маринистов XVII века наполнены сдержанным движением. XIX век принес — в изображении природы — трепетное движение. Пейзажи Федора Васильева, Левитана живут в каждой детали — дрожит вода в отражении стволов в „Большой воде» Левитана. Изгибаются сами стволы, растут, тянутся в весеннее небо.
Еще динамичнее пейзажи классиков импрессионизма, где все колеблется в преломляющей лучи атмосфере.
Полную противоположность такой трактовке пейзажа составляют пейзажи Возрождения (как обстановочные обстоятельства и специальные вставки в сюжетные композиции). Большое число таких вставок воспроизведено в издании „Детали картин Эрмитажа» (Ленинград, 1962).
Наверное, в самом сопоставлении статики пейзажа, в особенности архитектурного пейзажа, и динамики действия всегда есть композиционный смысл. Так в „Благовещении» Леонардо да Винчи (Уффици) движение фигур противопоставлено условному „архитектурному» рисунку деревьев. В „Успении» Мантеньи (Прадо) пейзажная вставка исполнена удивительного покоя. Даже лодка на водоеме расположена фронтально. Легкий общий серо-голубой колорит. За окном — покой, пребывание, здесь — в помещении — напряженное внутреннее действие, напряженный контрастный колорит.
Можно было бы отдельно говорить о своеобразии выражения времени в картинах, пытающихся охватить в мифологической форме всю жизнь человечества, как это сделал Иероним Босх в своем триптихе „Сад наслаждений» (Прадо), или жизнь человека-творца от молодости до старости, по аналогии с изложением легенды о Фаусте в знаменитой поэме Гёте.
Время в картине, так же как и пространство, не только конструктивная форма, но и образная, смысловая форма, существенный компонент сюжета в изобразительном изложении. Вот почему в изображении возможна и такая задача, как „вечность» (вероятно, за пределами реализма).
ВРЕМЯ КАК ФАКТОР И ЗАДАЧА КОМПОЗИЦИИ
Вернемся к идеям первой главы. Сюжет следует рассматривать как общее (инвариант) в различных формах изложения, в частности — изложении на языках различных искусств. Сюжет картины можно рассказать в словах. Во многих случаях картина пишется на сюжет, рассказанный в словах (на текст мифа, предания, современных свидетельств). Текст одного и того же рассказа содержит сюжет множества написанных и еще ненаписанных картин. В этом смысле и природный мотив, и город, и группа вещей, и человек, как данный человек, представляют собой сюжет — каждый для множества разных произведений и разных картин.
В искусствознании, однако, слово „сюжет» часто понимается в более узком смысле, как событие человеческой жизни, или — несколько шире, как „человек в его взаимодействии с окружением».
В этом смысле понятие „сюжетная картина», обнимая в свою очередь ряд жанров, противопоставляется пейзажу, натюрморту и портрету.
Не следует путать сюжет и предметное содержание картины (фигуры, действия, вещи, элементы пейзажа и т.п.). В выборе предметного содержания для данного сюжета уже налицо толкование сюжета. Вспомните стоптанную сандалию в „Блудном сыне» Рембрандта, отсутствие пира, вошедшего в сюжет евангельской притчи.
Предметное содержание, конечно, размещается и преобразуется („толкуется») в пространственных и плоскостных композиционных формах, в пластике и цвете. Вместе с этими формами оно становится носителем смысла. Но разве предметное содержание не оформлено своими связями?
Я понимаю, что не принято говорить о собственно сюжетных композиционных формах, то есть о формах предметного построения сюжета. В круге нашей темы не принято говорить о формах построения на холсте человеческих действий и мира вещей. Ведь композиционные формы ограничивают обычно распределением пятен и линий на плоскости, связями в пространстве или в „пространстве -времени». Картина, говорят, — живопись и только живопись, ее эстетическая информация ограничена цветом, линейным строем, пластикой. Это — типичное современное представление о композиции картины (ср. А. Моль, Теория информации и эстетическое восприятие). Но факт выбора предметов и предметных связей для изложения сюжета, такого выбора, который участвует в создании смысла и, кроме того, обеспечивает убедительность его подачи красками на ограниченном куске плоскости, то есть именно в живописи, говорит о существенной композиционной функции предметных форм построения сюжета.
Несомненно, это относится не только к сюжетной картине. Сравнение реального пейзажного сюжета с картиной показало бы, что цветовой и светлотный диапазоны сюжета подверглись в картине переложению, что и пространство построено по той или иной системе изображения, но также и то, что налицо выбор предметов, их связей, масштабов, что их акцентировка иногда существенно изменена в картине. Если бы фотография была объективным документом, можно было бы убедиться путем прямого сличения фотографии с любым этюдом, сделанным будто бы „точь в точь», что и в этом случае налицо переложение, поэтапное „кодирование», правда, — художественно непостроенное. У мастеров пейзажа и предметный отбор значителен, не только выбор колорита и пространственного строя. В этом — гарантия запоминаемости пейзажа и его осмысленности. Зачем в пейзаже Левитана „Весна. Большая вода» лодка? Только для равновесия ?
Выше говорилось, что исследование композиции надо ориентировать на композиционные формы сюжетной картины как наиболее развитые. Предметное построение и формы этого построения в сюжетной станковой картине служат прототипами для аналогичных форм в пейзаже и натюрморте. Земля (и небо) — это сцена наших действий, вещи — наши вещи. Человеческие сюжетные связи распространяются отраженно и на изображение пространства, как пространства человеческой деятельности, и на изображение вещей, как объектов деятельности.
Многочисленные этюды римской Кампании А.Иванова были сделаны им в предвидении большого пространства картины. Возможно, многие из них содержат намеки на присутствие или близость человека, даже на расположение фигурных групп. „Здесь мальчик будет выходить из воды» (есть, как известно, и этюд с мальчиком, выходящим из воды). „На фоне этой цепи голубых гор явится одинокая фигура Христа». „Это мощное дерево будет венчать главную фигурную группу». Главная разнообразная, но единая группа людей и большое, детально разработанное дерево — чем-то близкий, общий тип предметного построения.
Вспомним еще раз пейзаж Левитана „Весна. Большая вода». Выше говорилось, что стволы берез на этой картине образуют сложную, развернутую линейчатую цилиндрическую поверхность. Но можно также сказать, что, повторяя построение кругового действия, стволы берез образуют размыкающийся хоровод.
В картине Рубенса „Возчики камней» (Гос. Эрмитаж) главное действие выделено и замкнуто мощной, поросшей деревьями скалой с пещерой каменоломни посередине. Скала выступает вперед. Дальний план открывается справа и слева — в обход скалы. Пространственная форма напоминает построение пространства в картине Яна Брейгеля „Дорога на рынок». Но спокойные формы холма и венчающего холм дерева там согласованы со спокойным развитием действия. В пейзаже Рубенса тяжелое, напряженное действие находит свою аналогию в мощных, беспокойных формах скалы и скрюченных деревьев. Сходство двух картин — в формах пространства (выступающий центр, уходящие вдаль края). Контраст — в предметном наполнении и, разумеется, в пластике. Пространство сформировано для действий. А предметное содержание согласуется с пространственной формой, наполняет пространство жизнью и выражает сущность действий.
Сюжетная картина, с ее формами построения предметного содержания, служит прототипом и для построения натюрморта.
В натюрмортах мы видим либо группы — подчинение главному предмету (как бы „центрированное» действие), либо выстроенность предметов в линию, — как бы их шествие, либо модную теперь разбросанность, уравновешенную только на плоскости — подобно разбросанности слабо связанных действий и групп. В каждой группе -свое действие. У каждой вещи — своя жизнь. Конечно, натюрморт, кроме того, — группа вещей, выражающая их человеческое предназначение, — группа, окутанная движением рук или только облюбованная глазом.
Число сюжетов образует практически неограниченное и всегда открытое множество. Время религиозной замкнутости сюжетного многообразия, так же как и время замкнутости круга мифологических сюжетов, давно прошло. Сюжеты поставляет теперь вся история человека и вся непрерывно развивающаяся жизнь. Велико и постоянно увеличивается и число сюжетных картин — изобразительных изложений сюжетов. В каждой картине — хотя бы отчасти — свое предметное содержание. С этой стороны едва ли возможна типология картин, возможно лишь рассмотрение их в беге времени — история.
Но картина есть цветное изображение на плоскости, и ее неизбежные ограничения как изображения на плоскости требуют особых форм построения предметного содержания. Число таких форм ограничено, подобно тому как ограничено число техник нанесения красочного слоя — и прогрессирующих и повторяющихся в истории. И если здесь все же нельзя говорить о полной и строгой классификации — трудно найти единый принцип деления, — то возможно и необходимо говорить о типологии.
Еще меньше, чем предыдущие главы, эта глава претендует на исчерпывающее изложение темы, на роль своего рода учебника. Иногда говорят, что хорошо поставленный вопрос содержит и верный ответ. В данном тексте я предпочел бы сказать, хорошо и достаточно широко поставленный вопрос содержит указания на поиски ответов в разных направлениях.
Со стороны особенностей сюжетного построения необходимо выделить три группы композиций: однофигурные, двухфигурные и многофигурные композиции. В каждой из этих групп перед художником возникают со стороны сюжетного построения особые задачи. Может быть, следовало бы, кроме того, выделить в отдельные группы трехфигурные и массовые (по выражению Стасова — хоровые) композиции. Но все же особые задачи двухфигурной и трехфигурной композиций не так отличны друг от друга, как различны задачи од-нофигурных и двухфигурных композиций.
Многофигурные композиции, бесспорно, ставят свои задачи, кроме общих, специфические для них, и естественно переходят в композиции массовые (хоровые).
ОДНОФИГУРНЫЕ КОМПОЗИЦИИ.
ВНУТРЕННЕЕ ДЕЙСТВИЕ.
МОНОЛОГ
В отличие от портретных композиций однофигурные сюжетные композиции построены на связи фигуры с событием, действием, со средой действия и, в частности, с предметами, определяющими действие. Однофигурные композиции всегда содержат внутреннее действие. Если воспользоваться аналогией с литературным текстом, можно сказать, определяя различие между сюжетной однофигурной композицией и портретом, что портрет в живописи аналогичен характеристике „от автора», однофигурная же композиция есть монолог персонажа.
А для смысла монолога существенно и то, где он произносится, и то, когда по ходу действия, и в какой среде, и его предыстория.
Однофигурная сюжетная композиция — яркий тип построения предметного содержания с выходящими за пределы изображения предметными связями. Многое дается в косвенном изображении. Изображенные предметы служат признаками среды действия и времени, вынесенных за пределы холста. Связи со средой в однофигурных композициях — главные связи.
Рассказ о казни Себастьяна строился во многих образцах живописи Возрождения как однофигурная композиция. Вспомним картину Антонелло да Мессины „Св. Себастьян», рассмотренную во II главе. На картине мы видим страдание Себастьяна и остро выраженное одиночество (состояние, внутреннее действие). Заметим, что в портрете могут быть показаны следы страдания как следы жизни, но не само открытое страдание. Идея одиночества в портрете не возникает. Одиночество — это вариант связи со средой. Одиночество — это уже монолог.
Себастьян поставлен на первом плане. Его фигура огромна. Это условие для развития композиции. Оценим его следствия. В картине двоякая связь со средой. Во-первых — контрастная: страданию мученика противопоставлена обыденная (равнодушная) жизнь окружения, напряжению душевных сил в фигуре первого плана — будничная жизнь стаффажных фигур второго плана. Персонажи второго плана не выражают никакого ясного отношения к казни. И зритель не сразу замечает их, он воспринимает их первоначально только как фон события. Но наличие стаффажных фигур второго плана имеет прямое отношение к смыслу картины, и связь Себастьяна с изображенной средой становится при углубленном толковании явной. Второй план — не только фон. Равнодушие изображенной среды подчеркивает одиночество Себастьяна. Изобразительный монолог мученика звучит (осмысливается) именно в этой среде.
Во-вторых, существенна связь фигуры с враждебной средой: связь главного действия. Как же она построена? Фигура Себастьяна занимает почти весь первый план и обращена лицом к зрителю, чтобы ярче звучал монолог страдания. Поэтому палачам и процессу казни нет места в картине. Лишь стрелы, вонзенные в мученика, выражают враждебную среду, среду главного действия, вынесенную, следовательно, за пределы картины.
Мы не видим палачей, но в картине подсказаны предметными признаками и пространство с группой стрелков, и предыстория события. Существенно ли для смысла, что мы не видим палачей? Может быть, палачи уже ушли?*
Расширение пространства и времени по предметным признакам -прием специфический для всякой картины как изображения на ограниченном куске плоскости. В данном случае оно, кроме того, — следствие однофигурности изображения. В словесный текст легенды, как бы она ни была сокращена, всегда войдет рассказ о казни: палачи и их действия не будут вынесены за пределы текста. Зато в словесном тексте, вероятно, не будет так подробно сказано о будничной жизни окружения, о равнодушной среде. Это нужно было только для картины.
Ту же форму построения сюжетных связей мы находим в „Св. Себастьяне» Мантеньи (Вена). И здесь враждебная среда и процесс казни также вынесены за пределы картины.
Мы видим только вонзенные в Себастьяна стрелы. А налево от фигуры, помещенной на переднем плане в центре картины, среди развалин античной архитектуры вьется вдаль и вверх дорога, по которой идут или прошли мимо две фигуры, справа — мирный пейзаж с зайчиком.
Логика изложения сюжета аналогична логике картины Антонелло да Мессины. Одинокий страдающий человек, величественный в своем страдании, должен быть показан на переднем плане, лицом к зрителю картины. Значит, стрелков-палачей надо вынести за пределы холста. Одиночество же можно подчеркнуть контрастом с жизнью дальнего плана. А в данной картине, кроме того, и контрастом с античными руинами (мертвое, отжившее, бесстрастное и — живое, страдающее). Были для такого противопоставления у Мантеньи и другие мотивы- аллегорический подтекст (язычество, победа над ним).
Правда, есть и картины, изображающие Себастьяна в многофигурной композиции среди палачей. Но в такой форме изобразительного построения главного действия мотив одинокого страдания бледнеет. Внутренняя драма заменяется показом жестокой казни. Монолог -тонет в шуме действия.
Вообще анализ однофигурных сюжетных композиций учит, что где только можно происходит сокращение прямого изображения действия и создается выражение его по предметным признакам, выводящим восприятие за пределы картинного поля. Этого требует изобразительная и в особенности картинная форма построения сюжета в условиях однофигурности.
Эрмитажный холст Тициана „Св. Себастьян» еще скупее в открытом рассказе. Главное внешнее действие и здесь, как и в двух рассмотренных выше картинах, вынесено за пределы изображения. Мы видим только признаки казни — стрелы, вонзенные в грудь, живот и плечо мученика. Но в противоположность картинам Мессины и Мантеньи в картине Тициана нет и сцен будничной жизни вокруг фигуры мученика. Изображенную там человеческую среду, здесь заменила среда природная — стихия: тьма, драматическое грозовое небо. Среда, вошедшая в саму картину, здесь действует не как контрастная среда, а как отражение трагедии человека, как аналогия, переходящая в символ. И смысл картины уже другой, чем у Мессины и Мантеньи. Перед нами не одинокое страдание человека среди равнодушия и вражды, а гордое противостояние человека враждебным силам, та же трагедия утверждения жизни в ужасе гибели, что и в природе, что и в античной трагедии.
Подчеркнем еще раз форму свертывания рассказа в однофигурных композициях, замену широкого рассказа предметными признаками, вынесение части рассказа за пределы холста. Изобразительное „сокращение» рассказа может быть любым, лишь бы сохранился, а значит, и ярче выразился монолог человека (состояние, внутреннее действие).
Менее очевидны как сюжетные картины однофигурные композиции, где вообще нет внешнего действия, события, хотя бы вынесенных за пределы холста. Широко показана лишь связь фигуры со средой. У Александра Дейнеки есть картина — „Тракторист». Но, может быть, это портрет или портрет-тип? Нет, это — однофигурная сюжетная композиция.
Даже если бы картина называлась „Тракторист такой-то» — это все же была бы сюжетная картина. Картина задумана не как авторская характеристика данного человека, не как авторская характеристика такого-то, не как рассказ о нем, в котором окружение, прошлое и будущее извлекаются зрителями из внешности персонажа. Картина задумана как монолог изображенного человека, монолог, содержание которого определяется множеством связей с окружающей изображенной средой. В картине нет события, но очевидно единство человека со средой. Тракторист — хозяин земли, которая расстилается перед ним. Это выражено и в простой твердой стати, и в слегка поднятой голове человека, озирающего поля, и в просторе этих полей, и даже в таких предметных признаках, как расстегнутый ворот куртки, тяжелые сапоги, признаки весны в пейзаже. С идеей породненное™ с землей связана и особая устойчивость фигуры. Низкий горизонт делает фигуру большой и открывает широкое поле обзора („Я сын и хозяин моей земли, ее прошлого и будущего»). И смотрит тракторист не вперед, на зрителя, а вдаль, в поля.
Итак, сюжетная однофигурная композиция может быть лишена не только изображенного действия, но и подразумеваемого действия -действия, вынесенного за пределы холста. Связь человека со средой выявляет состояние человека и помогает понять, почувствовать то широкое время, в котором произносится изобразительный монолог. Тракторист вышел ранней весной в поле, все перед ним — плоды его прошлого и время его будущего свободного труда.
„Савояр» Ватто (Гос. Эрмитаж) — тоже сюжетная композиция без развернутого сюжета. Картина также лишена изображенного действия. Савояр остановился несколько в глубине сцены. Но единение савояра с родной средой очевидно. Предметные детали скупы. Собственно только его одежда да клетка со зверьком говорят о его жизни, вероятно, об этом говорит и городок вдали. Но именно эти скупые детали окружения и связь их с фигурой савояра выражают его душевное состояние и приоткрывают его жизнь в небогатом событиями времени.
Как показывают отдельные выдающиеся образцы однофигурных композиций, возможно еще более радикальное сокращение изобразительного рассказа, превращающего „монолог» персонажа в многозначную загадку.
На холсте Тинторетто „Юдифь и Олоферн», из серии его библейских картин-панно, действие широко развернуто. Выбрано время перед самой казнью тирана. За пределами изобразительного рассказа остается опьянение Олоферна. За пределами остается и отсечение головы и последующее время. Композиция — трехфигурная. Юдифь с саблей в руке приоткрывает балдахин над ложем опьяненного Олоферна. Напряженность ее позы и направление взгляда подсказывают ход действия. Сзади Юдифи служанка держит мешок для головы Олоферна. Конечно, и в этой картине прошлое и будущее узнаются по предметным связям, по признакам, которые расширяют рассказ за пределы прямого изображения. Но для изобразительного текста с его неизбежными ограничениями в картине Тинторетто все же предметный рассказ достаточно развернут.
Посмотрим, как тот же сюжет решали в однофигурных композициях Кранах и Джорджоне.
В венской картине Кранаха с одноименным названием изображено время после казни. Юдифь положила одну руку на отсеченную голову Олоферна, в другой держит меч; только эти предметные детали и отсеченная голова приоткрывают сюжет и указывают на среду действия. Ясно, что казнила Олоферна эта женщина, казнила этим мечом. Тем более сильно действуют спокойная поза, нарядный костюм, модная шляпа, изысканно уложенные волосы и выражение полного безразличия к событию на красивом лице героини. Никаких следов только что совершенной казни. Может быть, все же — торжество? Этот странный контраст между состоянием Юдифи и предметами, рассказывающими о только что свершенном, создает волнующую загадку холста — неопределенный колеблющийся смысл монолога Юдифи.
Та же сокращенность рассказа в „Юдифи» Джорджоне (Гос. Эрмитаж). Аналогичные предметные связи. Обнаженная ступня Юдифи на отсеченной голове тирана, да меч в ее правой руке. „Это я убила, вот этим мечом», — говорит Юдифь в изобразительном монологе. Но ее поза, ее красивая туника, спадающая гармоничными складками, гладкая прическа, ее спокойное, чуть задумавшееся лицо, обращенное к мертвой голове, содержат загадку, аналогичную той, которую мы видим у Кранаха. У Джорджоне, правда, развернуты детали среды — спокойный утренний пейзаж, дерево, каменная балюстрада. Аналогия состоянию героини? Или контраст? Сожаление? Рассказ сокращен до предела.
Достаточно двух атрибутов и противоречия между их смыслом, их рассказом и состоянием фигуры, выраженном в позе и лице. И мы понимаем монолог.
Общая форма построения сюжета в однофигурной композиции -сокращение изображенного рассказа и построение по признакам рассказа, прямо не изображенного. Конечно, в однофигурной композиции может существовать и обилие предметных деталей.
Так картина Федотова „Завтрак аристократа» содержит множество предметных деталей. Изображено и действие персонажа, поспешно прикрывающего бедный завтрак. Но за пределами холста остается нежданный посетитель (реальный или воображаемый). В рассказе сокращено открытое общение. Испуг „аристократа» остается монологом.
В картине Пикассо „Гладильщица», напротив, мы видим крайнюю скупость предметных деталей, конечно существенную — и существенную не столько для характеристики бедной среды, сколько по смыслу всей композиции. Только — утюг и тряпка. Но именно такое сокращение рассказа потребовало для выразительности монолога острой характеристики женщины, ее лица, аналогии спадающего потока волос с вертикалью нажимающих на утюг рук; потребовало острого движения плеча, повторяющего вместе с рукой и потоком волос очертание рамы. Если сокращены другие связи действия, должна быть усилена экспрессия фигуры, чтобы осуществился „монолог», рассказ (внутреннее действие). В монологе прочтутся и среда и расширенное время.
Картины Пикассо „голубого» и „розового» периода — поучительные образцы выражения внутреннего действия. „Внутреннее действие» — термин, распространенный в современной психологии. Он обозначает нечто иное, чем „переживание» и „состояние». Внутреннее действие это также и внутренняя речь, и управление внешним действием, сосредоточенность внимания и т.д.
Чтобы заострить вопрос, напомню картину Ходлера „Дровосек». В ней изображено напряженное внешнее действие. Но отсутствует монолог — внутреннее действие. Он не создается ни связями со средой, ни экспрессией лица, ни другими указаниями на сюжет. Эта картина в сущности лишь изображение действия. В ней нет поэтому ни расширения времени за пределы единичного действия, ни расширения пространства за пределы этого действия.
Не могу не заметить, что в статических однофигурных изображениях наших современных художников проблема передачи внутреннего действия часто отсутствует. Это не портреты — в них не хватает индивидуальной характеристики. Это не портреты-типы — не хватает острой социальной характеристики, это и не иконы, хотя внешне часто похожи на иконы. Не хватает иконографической символики. Это просто однофигурные изображения.
В двухфигурных композициях связи со средой, экспрессия отдельной фигуры, говорящие предметные признаки не теряют своей конструктивной функции. Однако на первый план выдвигается проблема взаимодействия фигур или, скажем, пользуясь выражением К. С. Станиславского, — проблема общения. Как среда по отношению к фигуре в однофигурной композиции не может быть просто фоном, хотя бы и предметным, и должна нести в себе связи, определяющие смысл, так и вторая фигура по отношению к первой фигуре не может быть в двухфигурной композиции только второй фигурой. Фигуры должны общаться между собой, определяя связывающее их действие.
В однофигурной композиции композиционный центр, приковывающий сразу внимание зрителя, очевиден. Он является и смысловым композиционным узлом, узлом всех существенных связей. Все соотносится с фигурой человека. В большинстве случаев фигура находится в середине картинного поля или близко к ней, часто занимает почти все поле.
Рассмотренные выше образцы следуют такой форме плоскостного распределения. Последняя продиктована, очевидно, выбранной сюжетно-изобразительной формой — однофигурностью, с ее изобразительными ограничениями и задачами.
В двухфигурных композициях обе фигуры важны, обе приковывают внимание, даже если одна из фигур по смыслу — второстепенная. Поэтому смысловым композиционным узлом в двухфигурных решениях сюжета часто становится цезура между фигурами — своеобразный выразитель характера общения, — цезура то меньшая, то большая, то наполненная предметными деталями, то пустая в зависимости от характера общения. Композиционных же центров, если фигуры достаточно удалены, может быть и два (если обе фигуры достаточно выделены, в цвете или пластике соперничают друг с другом). „Сокращения» рассказа за счет среды, прямого изложения события, предметных деталей могут быть и здесь радикальными, лишь бы выделилось общение — диалог двух фигур.
Рассмотрим две типичные двухфигурные композиции, два холста Эль Греко с минимумом предметных деталей. Один — из музея Прадо -„Св. Андрей и св. Франциск», и другой — из коллекции Эрмитажа -„Апостолы Петр и Павел».
И на том и на другом холсте фигуры равновелики, примыкают друг к другу и занимают почти всю плоскость. На холсте „Андрей и Франциск» изображена беседа двух святых, конечно, беседа вне конкретного времени. Пейзаж закрыт фигурами. Типичное для Греко предгрозовое небо повторяет драматические очертания складок одежды и подчеркнутую пластику говорящих рук. Связь фигур со средой такова: фигуры — тезис, среда — следствие, отголосок.
Франциск подошел к Андрею. Между лицами и говорящими руками — правой рукой Андрея и левой рукой Франциска — значительное расстояние. Сближены атрибуты святых, выражающие их духовную связь. Андрей придерживает левой рукой крест — символ казни Христа, а Франциск положил на грудь правую руку в жесте утверждения с резко обозначенным на ней стигматом — также символом казни Христа. Связь посредством символического единства атрибутов подчеркнута тем, что атрибуты расположены в зоне касания фигур. Святые изображены в состоянии беседы. Кажется, что говорит Франциск, обращаясь к слушающему его Андрею. Кажется, что говорит и Андрей, обращаясь к Франциску. Слова и жесты не воспринимаются как обязательно одновременные — это было бы бессмыслицей. Контрапункт слов и жестов переведен на изобразительный язык, в котором связь и характер жестов заменяют реальное чередование слов.
Франциск изображен в профиль. Он обращается к Андрею. И чрезвычайно выразительная „говорящая» кисть левой руки сопутствует своим жестом его словам. Напротив, Андрей стоит лицом к зрителю картины и слегка отклоненная влево голова, так же как „говорящая» правая рука, направлены к зрителю. Франциск обращается к Андрею, а ответы последнего носят более общий характер, как направленные к зрителю картины. Смысл изобразительного диалога толкуется, как сказано, атрибутами, говорящими о страданиях Христа.
Изобразительный диалог всегда шире и опирается на более широкую базу аналогий и контрастов, чем передача глухонемого языка жестов. Хотя и язык жестов, разговор рук достигает у Эль Греко исключительной выразительности. В целом важен не только диалог жестов, прямое выражение беседы — но и весь диалог образов. В этой картине перед нами типичная схема открытого общения (вариант беседы).
В эрмитажной картине Эль Греко „Апостолы Петр и Павел» нет изображения беседы, нет и других признаков открытого общения. Но диалог образов — очевиден, очевидна общность апостолов как основная внутренняя связь изобразительного текста, позволяющая нам говорить не о портретном жанре, а о сюжетной картине.
Апостол Павел стоит вполоборота к Петру, опираясь левой рукой на открытое Евангелие. Красный, из тяжелой ткани плащ его крупными массами организует левый, выступающий вперед устой пространства. Почти фронтальная, с едва повернутой к Павлу головой фигура Петра расположена несколько глубже. Ни лица, ни руки апостолов не выражают, как сказано, беседы. В левой руке Петр держит ключи, Павел опирается рукой о книгу. Правые руки апостолов сближены, правые руки „говорят», но их речь обращается к зрителю. Руки „говорят» одновременно. Взаимное положение голов также не выражает беседы. Апостолы не смотрят друг на друга. Но их образы тем не менее ведут диалог, сущность которого вовсе не в факте говорения. Диалог образов поясняют атрибуты: у Петра — ключи, церковная власть, у Павла — Евангелие — незыблемое „правило веры». Разные функции и единая цель. В картине нет конкретной среды, нет и открытого общения. Общение заменено общностью дела, вневременной общностью. Время застыло. Такое решение двухфигурной композиции, несмотря на жизненность жестов и реалистическую трактовку фигур как фигур, которые Греко мог бы встретить, напоминает двухфигурные иконные композиции. Это крайний случай сюжетной связи двух фигур (общение — общность).
Рассмотрим теперь совсем другой тип двухфигурной композиции. В картине Ге „Петр I допрашивает царевича Алексея Петровича в Петергофе» (ГТГ) изображена сцена допроса. Это открытое, рассказанное действие в конкретной среде. Правда, обстановочная сторона сцены скупа — просторный кабинет, стол, паркетный пол, определяющий глубину комнаты, кресло. И это почти все. Но как раз полупустое пространство обширной комнаты заставляет вспомнить о тесноте царских теремов допетровской Руси и гармонирует с европейским костюмом Петра. Заметим, что допрос происходил на самом деле в тюрьме. Перемещение сцены в просторный „европейский» кабинет, конечно, имело глубокий смысл. Допрос в тюрьме был бы личной трагедией отца и сына. Изобразительный диалог на картине Ге читается как диалог двух эпох, персонифицированный в образах Петра и Алексея. Читается на картине и будущее России, утверждается путь Петра.
Характеристика среды существенно расширяет смысл картины. Тот же подтекст чувствуется не только в обстановке допроса. Можно было бы указать и на выразительность поз Петра и Алексея, на жесткое, волевое лицо Петра и дряблое, дегенеративное лицо опустившего голову Алексея, его безвольно упавшие руки. Все это — предметное построение и толкование сюжета.
Но, развивая мысль об изобразительных особенностях двухфигурных композиций, обратим внимание на характерные для таких композиций конструктивные связи. И Петр и Алексей молчат. В допросе -пауза. Однако изобразительный диалог продолжается. Больше того, именно как следствие паузы он приобретает глубокий смысл. Не безразличными становятся не только характеристики поз и лиц участников диалога, но и расстояние между ними. Пауза в действии согласуется с цезурой в пространственном построении.
Как в картине Рембрандта „Давид и Урия» („Падение Амана»; Гос. Эрмитаж) Урия с опущенной головой уходит, провожаемый осуждающим взглядом Давида и горестным взглядом старика слева, уходит вперед, покидая картинное пространство, так и стоящий ближе к зрителю Алексей, отвернувшись и опустив голову, уйдет со сцены под грозным взглядом сидящего несколько в глубине Петра. Время действия растягивается. Долго ли молчит Алексей? Внешнее действие замерло. Общение между персонажами, смысл его читаются по признакам в растянутом времени. И здесь — в молчании, в паузе, подкрепленной пространственной цезурой, — главная форма сюжетной композиции. А характеристика среды расширяет время действия.
Взаимное расположение фигур в двухфигурных композициях сложно взаимодействуют с темой общения. Схем расположения двух фигур, создающих варианты общения и выражающих характер общения, не так много. Выбрав двухфигурную композицию как форму изложения сюжета, допускающего в большинстве случаев и многофигурное, а иногда и однофигурное изложение, художник вынужден считаться с этим изобразительным ограничением, чтобы показать широкое в сокращенном, большое и подробное — в скупом, развивающееся в пространстве и времени — на плоском неподвижном изображении.
Выделим возможные ориентировки двух фигур на зрителя картины и друг на друга — внешние формы для построения общения с вытекающими отсюда требованиями1.
а) Фигуры не находятся между собой в прямом общении. Они не обращены друг к другу. Не связаны жестами общения. Но каждая из фигур обращена лицом к зрителю, ориентирована на него. Поэтому читается прежде всего внутренний мир каждого персонажа.
Картина Эль Греко „Апостолы Петр и Павел» строится по этой схеме. Лица апостолов изображены в фас лишь с небольшими поворотами, оживляющими фронтальное положение, однако такими, что прямое общение апостолов между собой не читается. Лица апостолов ориентированы на зрителя. Мы говорили выше, какие предметные связи создают здесь общность фигур (косвенное общение), общность их „диалога» (диалог образов).
В жанровой картине Милле „Крестьянки с хворостом» (Гос. Эрмитаж) между фигурами также нет прямого общения. Они не ориентированы одна на другую. Но они не ориентированы и на зрителя. Одна женщина идет за другой. Лицо первой опущено вниз и показано в профиль, читается обобщенно, лицо второй опущено так, что не читается вовсе, фигуры связывает общее действие, аналогия поз, аналогия в одежде, общность среды (другой вариант косвенного общения). Вспомним, что внутренняя общность выражалась у Эль Греко смысловым единством атрибутов.
Еще один случай косвенного общения. В картине Рембрандта „Святое семейство» (Гос. Эрмитаж) Мария наклонилась к младенцу, лежащему в плетеной колыбели у ее ног. Лицо ее не ориентировано на зрителя картины. Она смотрит на младенца, приподнимая правой рукой полог колыбели. Сюда падает свет. Это центр композиции, в котором как будто уже все рассказано. Но есть и вторая фигура. На заднем плане плотник (Иосиф) обтесывает брусок. Иосиф дан в профиль и, конечно, ориентирован на свою работу. Между Иосифом и Марией нет прямого взаимодействия, нет и общего действия (Иосиф не смотрит на младенца). В жестах и позах нет аналогий. Но читается объединяющая функция среды, общность семейного уюта, общность интимной жизни бедного голландского интерьера. Тоже — диалог образов.
б) Между фигурами — прямое (открытое) общение. Такое общение мы видели в картине Эль Греко „Св. Андрей и св. Франциск». Каждая из двух фигур обращена к другой и не ориентирована на зрителя картины. Хотя Франциск как будто обращается к Андрею с вопросом, он также, может быть, и отвечает ему. Участники беседы занимают в ней равноценное положение. Они говорят в любом чередовании. Здесь нет зачина. Нет и дистанции — паузы между вопросом и ответом. Может быть, Франциск уверяет Андрея в соответствии с жестом левой руки, может быть, Андрей вопрошает в соответствии с жестом правой. Положение равновеликих фигур в передней фронтальной зоне картины подчеркивает равнозначность персонажей в беседе. Нет зачина, нет конкретного чередования речи, нет и конкретного времени.
Диалог между двумя фигурами, выражающий прямое общение, не обязательно речевой диалог-беседа. Совсем другой сюжет может быть изложен в двухфигурной композиции по схеме прямого общения, напоминающей построение только что упомянутой картины Эль Греко.
Например, это может быть диалог художника и его модели, объединяющее фигуры действие — здесь не беседа, а процесс изображения с натуры. В картине Рогира Ван дер Вейдена „Евангелист Лука, пишущий мадонну» (Гос. Эрмитаж) стоящий в профиль коленопреклоненный Лука смотрит благоговейно и внимательно на Марию с младенцем на руках. Мария находится в той же фронтальной зоне первого плана, что и Лука. Традиционное положение двух главных фигур на переднем плане потребовало легкого поворота лица евангелиста на зрителя картины, такого, однако, что сомнения в направленности его взгляда на модель не возникает. Мы видим по жестам рук, положению дощечки в них, что Лука рисует мадонну и, следовательно, смотрит именно на нее. Хотя в направлении взгляда евангелиста есть некоторая условность, неточность. Условность эта сторицей возмещается возможностью лучше показать лицо художника и выразить специфическое общение с моделью.
В картине два композиционных центра и значительное пространство (цезура) между ними. В цезуре — симметрично расположенные колонки лоджии, пейзаж за ней с симметрично же расположенными фигурами второго плана.
Симметрия в построении архитектурно-пейзажной среды повторяет симметрию в расположении главных фигур, подчеркивает равнозначность двух композиционных центров. Величина цезуры между ними выражает внутреннюю дистанцию между персонажами. Мадонна кормит грудью младенца и обращена к нему. Ее спокойное радостное лицо написано в фас и открыто зрителю. Она не позирует художнику. Общение одностороннее. В изобразительном диалоге нет зачина. Сцена погружена в тишину отвлеченного времени. Тем более велика смысловая нагрузка цезуры, подчеркнутая „тишиной» (статикой) пейзажной вставки. В цезуре — смысловой узел композиции.
Сюжет „художник и его модель» был рассказан и в другом изобразительном изложении, в существенно других двухфигурных композициях. Оставим легендарный смысловой уровень и отвлеченное время и перейдем к конкретному времени, к эпизоду реального общения в ситуации „художник и его модель».
Художник в картине Вермеера „В мастерской художника» (Вена) показан сидящим на табурете спиной к зрителю. Рисуя, он смотрит на модель. Но мы не видим его лица, видим только поворот головы и корпуса, его правую руку, опирающуюся на муштабель, и голубые мазки на холсте, аналогичные голубому венку на голове модели. Изобразительный рассказ о художнике сокращен до скупых предметных признаков действия.
Мы не видим в фигуре художника выразительного раскрытия темы — просто нарядный силуэт на первом плане и связывающее его с моделью действие.
В глубине комнаты стоит модель — молодая девушка в голубом платье с голубым венком на голове, с желтой книгой и трубой в руках. Она ориентирована на зрителя картины. Выделенная идущим из окна светом и исключительно звонким сочетанием голубого и желтого, она образует центр композиции. Цезура между фигурами воспринимается как естественная связь между ними по смыслу действия. Девушка позирует. Ее общение с художником определяется желанием быть для него красивой. Ей трудно держать тяжелую книгу и трубу и стоять так, как велел художник. Заметна ее скованность. Но это красиво, и она приглашает художника любоваться, она „приглашает» и зрителя любоваться ее красотой. Эмоциональный компонент смысла (красиво!) выражен также в оправе главного мотива — в предметной среде мастерской и нарядном костюме художника.
Как видим, центр композиции здесь один и притом в глубине картины. Он открыт зрителю. Это — модель. В нем сосредоточен и внутренний смысл общения: больше позирование, чем творческий процесс. Художник — это лишь определяющее сюжет действие, лишь зачин. Зрителя интересует модель. Обстоятельства действия и обстановка действия здесь конкретны. Конкретно и время: на холсте лишь начало рисунка.
Сюжет „художник и его модель» излагался на холсте много раз. Пикассо посвятил ему целую серию рисунков. В этих рисунках либо акцентирован художник, его лицо, поза и жест, либо акцентирована модель. Интересно проследить вариации смысла, связанные с относительным положением и акцентированностью лиц и фигур в его серии.
Рассмотрим теперь другие образцы двухфигурных композиций, где диалог фигур представляет собою открытый зрителю процесс беседы, речевого общения в паузе или говорении: эпизод речевого общения в конкретном времени.
Один образец был рассмотрен выше. Это картина Ге „Царь Петр и царевич Алексей». Рассмотрим его теперь в новом сопоставлении. Между фигурами царя и царевича прямое общение. Петр обращен к Алексею. Алексей отвернулся от Петра, царь Петр ждет ответа. Алексей молчит. Персонажи расположены так, что зрителю видны их лица. Обе фигуры ориентированы на зрителя. А это потребовало эшелонирования фигур в глубину. Петр в глубине кабинета. Алексей — на переднем плане. В разговоре наступила пауза, и наличие общения выражено лишь мимикой и позами. Диалог становится внутренним. Ожидание Петра выражено его напряженным лицом-это зачин. Но зачин здесь так же важен для сюжета, как важен ответ Алексея — молчание. Поэтому здесь два композиционных центра. А композиционной связью (узлом), выражающей смысл общения, служит цезура между фигурами. Ее величина отвечает длительности паузы, выраженной в мимике и позах, отвечает затрудненности ответа и ожидаемому осуждению.
В другой картине Ге „Что есть истина?» („Христос и Пилат»; ГТГ) Пилат стоит спиной к зрителю картины. Его жест — жест вопроса — читается только как компонент действия (зачин). Напротив, главная фигура — прислонившийся к стене Христос — открыта зрителю. В лице, руках, позе Христа читается смысл ответа — молчание. Эффектному пятну переднего плана противопоставлены скупые краски стоящей в тени фигуры, приглашающие к проникновению в смысл ответа Христа.
Связь открытого действия (беседы) здесь — связь вопроса и молчания, так же, как в картине „Царь Петр и царевич Алексей». Но главные персонажи поменялись ролями. Там спрашивает Петр („герой»), молчанием отвечает Алексей, здесь спрашивает Пилат („антигерой»), молчанием отвечает Христос („герой»). Там смысловой акцент на вопросе, здесь на ответе молчанием. Повторим. Если на зрителя ориентирована одна фигура из двух, она становится композиционным центром и ответом в диалоге. В картине Вермеера художник обращается с вопросом к модели. Отвечает — модель. Здесь и композиционный центр. Если на зрителя ориентированы оба участника диалога, оба открыты зрителю, композиционных центров может быть два и особый смысл приобретает цезура между ними (она же — композиционная связь).
Еще один образец: между персонажами прямое общение типа беседы (вопрос и ответ), фигура первого плана спиной к зрителю, фигура в глубине картины ориентирована на первую фигуру и на зрителя. Так строится „Отказ от исповеди» Репина (ГТГ). У священника, стоящего спиной к зрителю, мы почти не видим лица, видим только атрибуты сана, крест в его руке. Главный персонаж — узник, напротив, обращен лицом и к священнику и к зрителю. И в мимике узника и в откинутой позе легко читается его ответ (отказ).
Смысловой компонент цезуры между фигурами усилен характерными движениями. Священник приближается к узнику, узник откинулся назад. Композиционный центр — фигура узника. В фигуре священника — только зачин диалога. Сюжетное построение этой картины, как мы видим, аналогично построению картин „Христос и Пилат».
Но дистанция между фигурами (цезура) в картине Ге „Петр и Алексей» — больше, чем в картине Репина, и это имеет смысл. В ней один из признаков характера общения. Заметим, что во всех перечисленных случаях среда не служит второй стороной в диалоге, ее роль менее активна. Она — следствие смысла диалога или согласованное с ним его дополнение, расширение.
Положение фигур друг относительно друга, их ориентировка в общении и степень открытости для зрителя — важная форма построения двухфигурной композиции. Не менее важно и значение дистанции между фигурами. Подумаем о значении дистанции в таких мотивах, как встреча, прощание, конфликт, спор, разрыв. В картине Рембрандта „Давид и Ионафан» (Гос. Эрмитаж) обе фигуры слиты в один общий силуэт (мотив прощания), подобно тому как слиты в один общий силуэт фигуры отца и блудного сына в другой картине Рембрандта (мотив встречи). Давид стоит спиной к зрителю, припав к груди Ионафана. Ионафан обнял Давида и стоит к зрителю лицом. Общий силуэт образует композиционный центр и смысловой узел картины. Но значение предстоящего подвига выражено открыто не в фигуре Давида, а в лице Ионафана. В позе Давида нет ни решимости, ни силы, кажется, он плачет. Ионафан благословляет его на подвиг. Двухфигурная композиция сблизилась с однофигурной. И смысловую силу приобретает среда — горящий город, дым пожарища, застилающий небо. Ионафан отдает Давида в руки судьбы. Дистанции между фигурами нет.
Выбор двухфигурной композиции для сюжета, допускающего обычно различные формы сюжетного построения, заключает в себе определенные ограничения и трудности. В их преодолении — выразительность и смысл композиции.
Перед испанским художником Сурбараном была поставлена задача изобразить четыре эпизода из жизни Петра Ноласского. Один из них — „Видение Петру Ноласскому св. Иерусалима» по тексту Апокалипсиса (Прадо). В тексте „Откровения Иоанна» сказано: „И пришел ко мне один из семи Ангелов… и показал мне великий город, святой Иерусалим, который нисходил с неба от Бога» (21,9-10).
Можно было бы изобразить видение города, подобно тому как Сурбаран сделал это в другой двухфигурной композиции того же цикла „Видение Петру Ноласскому св. апостола Петра» (Прадо).
Там коленопреклоненный монах, раскинув руки, изумленно смотрит на распятого вниз головой апостола, являющегося в золотом облаке. Лицо и жест изумления монаха оправдывают связь между фигурами. И ничего, кроме контраста золотого облака и выступающих в темноте белых одежд монаха, кажется, не нужно для толкования сюжета. Но как сильно показано этими средствами, что на картине видение, а не сон монаха: видение бодрствующего человека.
Если воспользоваться для апокалиптического видения тем же сюжетным построением, композиция будет однофигурной: Петр Ноласский перед видением города.
Сурбаран использовал текст Апокалипсиса иначе, поставив монаха в положение автора „Откровения», к которому пришел один из семи апокалиптических ангелов и показал Новой Иерусалим, спускающийся с неба. Монах изображен в своей келье коленопреклоненным перед открытой книгой, которую он читал. Петр заснул над страницей „Откровения Иоанна», оперев голову о левую руку. Он не ориентирован ни на ангела, стоящего справа, ни на пейзаж Нового Иерусалима, явившийся в облаке за его спиной.
Его фигура и келья — это реальная среда. Ангел, показывающий поднятой над головой Петра рукой на видение города, — это другая среда — среда сновидения. И так как они разные — реального общения между спящим монахом и ангелом нет. Для того чтобы это общение прочесть, надо перенестись в план сновидения. Но там Петр не видел бы самого себя рядом с ангелом, не был бы и спиной к видению города. Перед ним возникло бы видение, подобное видению Иоанна, видению спускающегося с неба ангела, указующего на город. Между ангелом и монахом была бы и модальная (реальность — сон) и изобразительная дистанция. На картине ее нет; ангел обращается к спящему монаху в реальном пространстве, будучи вместе с тем сновиденем святого. Двухфигурность потребовала здесь совмещения двух модальностей явления: реальность, сон. Отсюда и особый характер общения.
Во всех вариантах двухфигурных композиций задача выразить общение (или разобщение), общность (или внутренний контраст) остается главной.
Связь характера общения со взаимным положением персонажей не следует понимать как связь однозначную, по типу связи „знак — значение». Диалектика образа всегда допускает и для определенных задач требует инверсий выражения. Большая цезура между фигурами может выражать не разрыв, а устремленность персонажей друг к другу. Подсказанная выразительностью движений и другими предметными признаками, устремленность фигур друг к другу выражает тогда преодоление дистанции. Чем больше дистанции, тем сильнее динамика ее преодоления. Отвернутость фигур друг от друга может выражать как их разобщенность, так их внутреннее молчаливое общение. Разобщенность — антитеза общения и вместе с тем — другой тип общения внутри диалектики общения.
В картине Пикассо „Мать и сын» сын прижался к матери, но отвернулся от нее. Мать, опустив голову, отвернулась от сына. Каждый одинок в своей собственной безнадежности, замкнут в ней. Налицо разобщенность, созданная нищетой. Но именно острота выражения этой внешней разобщенности определяет внутреннее общение, единение в страдании.
Аналогично в трехфигурной композиции Пикассо „Бедняки на берегу моря «мужчина и женщина не смотрят друг на друга, опустив головы. Между ними пауза. И вся картина воспринимается как молчание. Связывающая неподвижно стоящих взрослых, фигура мальчика не нарушает разобщенности. Открытой ладонью левой руки он обращается к отцу и молчит. Молчание здесь знак разобщенности, но вместе с тем и знак глубокого внутреннего диалога.
Проблема общения как будто не стоит в последнее время перед нашими художниками. Все фигуры ставят лицом к зрителю (ради „монументальности»). Повороты и движения не выходят за рамки чисто внешней связи, в лучшем случае, связи внешним действием. Так теряется и выражение времени, и психологический подтекст, и не переводимый на слова сокровенный смысл, тот смысл, вокруг которого только кружатся слова искусствоведа-интерпретатора. О пяти позирующих лицом к зрителю шахтерах можно все адекватно сказать словами. Но не скажешь адекватно словами ни о молчании Алексея в картине Ге, ни о бедняках Пикассо.
Многофигурные композиции, как бы полно ни решалось в них изображение самого действия, не освобождают художника от задачи создания среды в пределах холста или за его пределами, среды изображенной или подразумеваемой. Неизбежные для изобразительного текста сокращения, очевидные в однофигурных композициях, налицо и в многофигурных.
Необходимо в многофигурных композициях и решение задачи общения, — во всяком случае, между главными действующими лицами. Иногда общение между главными фигурами, представительствующими каждая за свою партию, составляет нарочито выделенный узел композиции и позволяет сблизить многофигурную композицию с двухфигурной. Тогда действие в окружающей толпе звучит приглушенно, только как следствие или предлагаемые обстоятельства. Определившая эпоху в развитии живописи социалистического реализма картина Б. В.Иогансона „На старом уральском заводе» формально — многофигурная композиция. Но в ней так ярко выделен диалог двух первопланных фигур, что все остальное читается лишь как условие, окружение-предлагаемые обстоятельства. По существу, перед нами двухфигурная композиция. Двухфигурность или многофигурность построения определяется не пересчетом фигур, а средоточием смысла. Сопоставьте эту композицию Иогансона с композицией „Не ждали» Репина. Там — также две главные фигуры — мать и сын, но существенны и все остальные фигуры кольцевого построения -варианты отклика на событие. В картине Иогансона — только диалог. Диалог выражен сплетением контрастов. Прежде всего очевиден цветовой контраст пятен. Светлая фигура сидящего кузнеца и темная фигура хозяина. Конечно, контраст оправдан и предметно. В жаркой кузнице рабочий полуобнажен. Хозяин пришел с мороза (завязка рассказа) и только что распахнул шубу. Кузнец занимает первый план, хозяин расположен на втором. Благодаря этому контрасту планов пластика тела, рук и лица рабочего чрезвычайно сильна.
Неоднократно отмечался контраст поз двух персонажей. Устойчивая, как монумент, поза кузнеца и неустойчивая поза хозяина. Но существенно и то, что рабочий не встал, а хозяин проходит, обернувшись. Диалог углубляется жестами фигур и мимикой. Кузнец слегка повернулся к хозяину, но не отвечает ему. Ответ ясен в его позе, в его взгляде. Хозяин оглядывается на кузнеца, но уходит.
Зачин молчаливого диалога — в главной фигуре. В ней же и ответ. Перед нами, конечно, диалог образов, но и диалог действия. Действие показано в малом времени рассказа, но его образное выражение создает большое время — предсказание: за угнетением победа, за кажущейся устойчивостью дореволюционных общественных отношений -классовая борьба и ее неизбежный и близкий исход. Действительно, это олицетворение истории в типических образах — до предела сокращенный предметный рассказ, до предела ясный исторический смысл. Картину можно рассматривать и как двухфигурную композицию.
В картине Веласкеса „Сдача Бреды» (Прадо) встреча маркиза Спинолы и герцога Насаусского выражает весь смысл события. Характер общения, акт передачи ключей Бреды, униженность герцога и ласковая снисходительность Спинолы настолько полно решают сюжетную задачу, что и многофигурные группы воинов и пейзажная среда с горящими селениями читаются только как естественное дополнение (предлагаемые обстоятельства) к встрече полководцев. Многофигурную композицию эту можно тоже толковать как двухфигурную, а толпы слева и справа как среду действия. Формальные границы между двумя типами построения сюжета не так существенны как смысловые.
Но в многофигурных композициях есть и свои задачи, свои формы построения сюжета.
Прежде всего опишем один тип многофигурной композиции, существование которого в истории живописи заставляет нас вернуться к важному теоретическому вопросу. Большая часть сюжетных многофигурных композиций в станковой живописи соблюдает закон единства действия. Сюжет излагается в многофигурной композиции таким образом, чтобы все фигуры были связаны единым действием. Если все же по характеру сюжета в изобразительном изложении должно быть несколько действий, несколько сцен, одно действие должно быть главным и занимать главную часть картины. В зоне главного действия находится и композиционный центр картины. Единство действия типично для станковой живописи итальянского Возрожения, хотя и не было тогда еще законом. Оно было возведено в жесткий закон классицизмом. Оно сохранило и сохраняет значение также для реалистической станковой живописи до настоящего времени. Требования единства действия — не то же самое, что требования единства момента действия. Классицизм связывал единство действия с одно-моментностью изображения, с идеей кульминационного момента. Единство действия в картине может быть и развитием действия -сквозным действием в разных сценах.
История живописи дает нам образцы картин с многими независимыми действиями и даже независимыми друг от друга частными сюжетами, из которых ни один не может быть назван и выделен на картине как главный. Станковая композиция с многими независимыми действиями связана, конечно, более глубокой связью, связью иного плана, связью, выражающей общую идею, воспроизводящей некоторую отвлеченную концепцию или общее представление. Яркие образцы таких картин содержит, в частности, живопись Нидерландов XVI века — живопись Питера Брейгеля Старшего, Питера Брейгеля Младшего, Иеронима Босха.
Но, может быть, в этих образцах использованы формы декоративной росписи, не требующей единого композиционного центра, не связывающей все содержание в единый узел, не сжимающей его в одно картинное поле центростремительными силами? Может быть, здесь использованы формы центробежного заполнения элементов архитектурной поверхности?
В композициях рассматриваемого типа каждая отдельная сцена, каждое отдельное действие предполагают свой смысловой сюжетный узел, выражающий смысл действия. Смысловых композиционных узлов может быть много. Следует различать понятия „сюжетный композиционный узел» и „композиционный центр картищл. Эти понятия возникают в разных планах исследования. Первый — в плане внутренних связей, второй — в плане внешних: предметных, пространственных, линейных, цветовых. Композиционный центр — это выделенная фигура или предмет, привлекающие внимание зрителя. Он чаще всего близок к оптическому центру. Децентрализация требует смыслового обоснования.
В двухфигурных композициях часто два композиционных центра -обе фигуры одинаково приковывают внимание и выделены для этого различными приемами, но один смысловой композиционный узел -связь между фигурами, общение, выраженное не только в фигурах, но и в цезуре между ними. В многофигурных композициях с множеством действий и сюжетных узлов для сохранения цельности всей композиции создается один композиционный центр. Вокруг него организуется хоровод отдельных сюжетов. Сюжетных композиционных узлов много, каждый из них выражает смысл отдельной сцены.
Совпадение или несовпадение композиционного центра и сюжетного смыслового узла (или узлов) — это, разумеется, также важная композиционная форма, несущая смысл.
В картине Питера Брейгеля Младшего „Ярмарка»(Гос. Эрмитаж) большим цельным пятном простой формы выделен балаган с подмостками, где идет представление. Это — композиционный центр картины, близкий к оптическому центру. Вокруг него расположено по кольцу множество самостоятельных сцен. Хоровод, пирушка, кухня и очаг, шествие с красными хоругвями и фигуркой на носилках, ряды покупателей, толпа молящихся около креста, отъезжающая коляска. Отдельные сцены и действия различны по эмоциональному тону и смыслу. Например, опираясь ногой на ступицу колеса и опрокинув табуретку, крестьянин пытается влезть на коляску. Его отталкивают. А неподалеку спокойно читают наклеенные на стену объявления. Но в разнообразии и пестроте отдельных сцен — одно сквозное действие, одно общее представление о нем, выраженное названием — „Ярмарка». Единства действия в узком смысле слова здесь нет. Изображенное множество сцен не только не предполагает одномоментности, но, напротив, реализует развитие отдельных сюжетов в любой последовательности, допускающее поэтому и любую последовательность рассматривания по ходам в глубину — справа или слева, огибая балаган. Именно разбросанность сцен выражает общее представление о деревенской ярмарке.
Множество сцен может выражать и единую отвлеченную идею. Картина Питера Брейгеля Старшего „Триумф смерти » (Прадо), как и „Охотники на снегу», невелика по размерам (доска 117 х 162 см) написана маслом по темпере и носит несомненно станковый характер. Пространство и в ней, аналогично „Охотникам на снегу», построено в форме чаши, способной вместить многочастный рассказ. Посередине доски, считая по вертикали, — впадина. В центре впадины и, следовательно, в центре картины — черный силуэт осажденной горящей крепости с вырывающимся кверху желтым пламенем. Пламя -самое яркое пятно картины. Оно сразу выделяется и вместе с черным силуэтом крепости образует композиционный центр, около которого слева и справа, внизу и наверху рассказано множество разных сюжетов. Впадина разделяет планы. На переднем плане до ста фигур, разбросанных или соединенных в отдельные сцены. Плотность расположения фигур возрастает к краям картины. Посередине первый план пропускает взгляд к горящей крепости, образуя по сторонам как бы два клейма. Расположение фигур в углах правого и левого клейма, скругляя углы, замыкает плоскость картины. На заднем плане (в верхней части картины) аналогичную функцию чашеобразного замыкания выполняет темная скала слева и скала справа. Горизонт высокий. Плотное небо на две трети закрыто дымом пожарищ и создает возврат пространства к переднему плану.
На дальнем плане лента шествия выделяет над крепостью круглую горку с церковью, окруженной толпой. Туда и направляется шествие. Справа и слева от мотива шествия расположены сцены казни (справа), тонущий корабль в морском заливе, горящее побережье, мотив набатного колокола (слева). Нет возможности коротко рассказать о всех сюжетных деталях картины. Ее предметное содержание практически неисчерпаемо. Вместе с тем цельность картины очевидна. Это цельность пространства и цветового строя, это — общность смысла, связывающего эпизоды в сквозное действие. Плоскостное построение картины симметрично. Главный цветовой акцент — черная крепость и желтое пламя над крепостью — находится в оптическом центре картины и собирает вокруг себя весь контрапункт цвета.
Горящая крепость расположена, как сказано, на разделе главного и дальнего плана. Она замыкает кольцо отдельных сцен главного плана. На линии раздела второго и дальнего плана расположена церковь, расположена также посередине (то есть на одной вертикали с крепостью) и замыкает второе кольцо, кольцо шествия вокруг холма. Пространственное расположение предметов и сцен, чашеобразная структура пространства, главный цветовой акцент выделяют крепость и пламя над ней как центр композиции еще независимо от понимания смысла.
Но крепость — вовсе не композиционный узел, связывающий по смыслу отдельные действия и отдельные аллегорические сцены. Каждая сцена независима от другой, живет в своем времени и многие из них могут быть выделены в качестве композиционно законченных фрагментов. Отдельные сцены могут рассматриваться как замкнутые, хотя, образуя единую вязь линий и цвета, они частично накладываются друг на друга. В левом нижнем углу,- фигура мертвого короля, фигура аббата, которого тащит скелет (смерть), бочка с золотом, расхищаемая скелетом в латах, рассыпанные монеты, фигура женщины в красной одежде под копытами лошади, впряженной в повозку с черепами, которой правит смерть с фонарем в руке. Фонарь освещает жертвы. Композиционный узел этой сцены — смерть на повозке, освещающая сцену фонарем. Смысл сцены: светская власть, церковная власть и богатство равны перед лицом смерти.
В правом нижнем углу — любовная пара с лютней и подыгрывающая ей смерть. В центре сцены — круглый стол с остатками пира. Сзади стола — участницы пира, вскочившие в испуге. Одну из них захватил скелет (смерть), другой — смерть протягивает блюдо с черепом. Перед столом фигура разбойника, орущего и вынимающего шпагу — олицетворение убийства и разрушения. Слева фигура игрока, пытающегося спрятаться от убийцы под стол, разбросанные карты. Впереди фигуры орущего со шпагой еще две фигуры с обнаженными шпагами, преследующие толпу жертв. Здесь начало нового сюжета.
Сцена с круглым столом — также аллегорическая сцена. Ее композиционный узел — орущая фигура убийцы. Смысл: и любовь, и веселье пиршества, и азарт игры — все будет сметено, все — ничто перед насилием и убийством.
Если рассматривать развитие последовательности сцен в правой части картины, мы увидим странное сооружение — огромный люк с открытой крышкой и толпу, заталкиваемую в этот люк персонажами нижней сцены с круглым столом. Туда же скачет апокалиптический конь, конь войны. Смерть на коне размахивает косой, и толпа в ужасе устремляется в люк. Ниже люка ряд воинов с крышками гробов, напоминающими щиты. Выше люка плотная толпа воинов с дымящими факелами. Всю эту часть картины, кажется, надо понимать как символ войны. Кажется, надо понимать так — кажется, потому что расшифровка смысла сцен становится тем труднее, чем они ближе к центру картины.
Посередине внизу, между двумя сценами, в сравнительно свободном пространстве — отдельные фигуры: фигура в гробу, спеленутая фигура, почему-то лежащая накрест под гробом. И всюду в поисках жертв бродит смерть.
За озером, слева — новая сцена. На площадке каменного здания у самой воды вокруг креста — фигуры в белых одеяниях (праведники). К ним стремятся и тонут в озере сбрасываемые смертью, кричащие и жестикулирующие фигуры. Может быть, горящая крепость в центре — врата ада?
Сцены на втором и дальнем плане реальны: моление и шествие к церкви, варианты казни, мотивы тонущего корабля и набатного колокола.
Нас захватывает общий ужас, выраженный в картине, хотя многое в ней остается загадкой. Композиция ее рассчитана на длительное рассматривание по частям. Стоит ли повторять, что у каждой сцены в картине свое время, что нет единой временной последовательности, если не считать движения отдельных фигур и их групп.
Существование нескольких сцен в одной картине было и в ренессансном искусстве и в Проторенессансе нередким явлением. В этом нетрудно убедиться, открыв альбом, посвященный любой из известных коллекций. При этом главная сцена выделялась и обычно помещалась в центре. Отдельные сцены объединялись последовательностью во времени. Например, „Смерть Лукреции» Филиппино Липпи (галерея Питти), „Эпизоды истории Иосифа» Андреа дель Сарто (там же), „Мученичество св. Маврикия» Понтормо (там же). Встречалось соединение нескольких разновременных сцен и в нидерландской живописи. Вспомним „Крещение» Патинира. Это было допущенной традицией.
Картина Брейгеля „Триумф смерти», так же, как триптих Босха „Сад наслаждений» (Прадо), — особые случаи. Они интересны тем, что сцены связаны не временной последовательностью, а единой идеей или текстом учения, если иметь в виду „Сад наслаждений» Босха.
Классическая форма размещения фигур в многофигурной композиции, однако, рассчитана на единство действия в узком смысле. Обратимся к известным образцам.
О композиции знаменитой картины Александра Иванова „Явление Мессии» прямо или косвенно говорили художники, входившие в его круг, писатели, искусствоведы. Общая концепция и сюжетное построение больше всего привлекали внимание в этом огромном холсте. И советы современников, и последующие оценки, и анализы картины были во многом противоречивы.
М.В.Алпатов в своем известном труде „Александр Иванов» суммирует все сказанное до него об этой картине и излагает собственную концепцию, содержащую ряд важных положений и тонких наблюдений. В V главе 1 тома он рассказывает творческую историю картины: ее замысел, композиционные поиски. В VI главе говорит о богатом этюдном материале к картине, чрезвычайно интересном с точки зрения творческого процесса. Наконец, в VIII главе специально изложен анализ композиции картины главным образом со стороны построения сюжета: построения главного действия и отдельных групп, связи главных фигур между собой и связи отдельных групп с общим действием.
История создания картины, нарисованная Алпатовым, помогает понять ее композицию, но влечет за собой ряд побочных вопросов. По смыслу данного исследования важнее определить композиционные формы, реализованные в окончательном варианте и, в частности, именно форму построения сюжета. Обратимся поэтому к тексту VIII главы исследования М.В.Алпатова. Нам важно показать, какие особенности построения влечет за собой выражение единства смысла в единстве действия, в противоположность построению с единством смысла во множестве разных, независимых сцен (действий).
Несмотря на большое число фигур и разнообразие внешних действий в отдельных группах (их три, а не четыре, как думает Алпатов), в картине Иванова отчетливо выражено единство общего действия, именно — единое внутреннее действие* — отклик разноликой толпы на слова Иоанна, указующего на спускающегося с горы Мессию. Логику внутреннего действия, разнохарактерного отклика на сказанные главным героем слова Иванов изучал в росписи Леонардо „Тайная вечеря».
В трех группах картины Иванова — разные внешние действия. Левая группа первого плана с будущими апостолами — Иоанном и Андреем устремлена к Мессии. Ее замыкают фигуры старика и мальчика, выходящих из воды: движение слева направо. Центральная группа первого плана — группа иудеев, свершивших омовение или принявших крещение и уже вышедших из воды. Здесь — различные стадии одевания и отдыха. Здесь — и наибольшее разнообразие сословных характеристик. Единого движения нет. Наконец, правая группа, соединяющая первый план со вторым, — это шествие с горы к месту крещения.
Все фигуры левой группы, кроме одной, видят или стремятся увидеть по направлению руки Предтечи приближающегося Мессию. В центральной группе переднего плана все слышат слова Предтечи и либо обращены к нему, чтобы лучше слышать, либо, следуя его слову и жесту, обращены к Мессии. Спускающиеся с горы большей частью не обращены ни к Предтече, ни к Мессии. Лишь некоторые обернулись назад и смотрят на приближающуюся одинокую фигуру. Но и к ним относятся слова Предтечи. В этом и состоит объединение фигур и групп единой внутренней связью, несмотря на разные внешние действия. В композиции картины — два композиционных центра: возвышающаяся на первом плане недалеко от центра картины открытая зрителю фигура Предтечи и фигура спускающегося с горы Мессии, выделенная свободным пространством около него. Связь главных фигур выражена жестом Предтечи. Благодаря его слову, обращенному к толпе, и жесту, указывающему на Иисуса (Алпатов называет этот жест „ораторским», но рука и указательный палец Иоанна точно направлены на фигуру Мессии; значит, жест также и указующий), даже персонажи, не видящие Иисуса и отвернувшиеся от Иоанна, осознаются как втянутые в общую цепь разноречивого отклика. Что касается смысла общения между двумя главными фигурами, то следует обратить внимание также и на точно найденное между ними выразительное расстояние.
Алпатов различает композиционный центр и смысловой центр картины. Композиционных центров два, а смысловой центр, по его мнению, в картине один: Мессия. Но смысловой план образа-особый план, в нем вовсе не обязательна пространственная локализация „узла» в одном предмете. Смысловой композиционный узел связывает в картине Иванова две главные фигуры. Слова и указующий жест Иоанна — это зачин главной смысловой связи картины, объединяющий все фигуры единством отклика. Но по смыслу отклика реализуется вторая связь, связь с удаленной фигурой Мессии. У Иванова более сложная схема построения внутреннего действия, чем у Леонардо в его „Тайной вечере».
Единство отклика в картине Иванова достигнуто. Но нет необходимости говорить здесь об одном мгновении действия. Единство действия — не в мгновенности „среза» и даже не в относительно длительной кульминации. Длительность, прошлое и будущее, так же как и мгновенность (тоже категория времени), читаются на картине опосредованно, подобно тому как чувства читаются по их внешнему выражению. Мгновенность реакции читается лишь в характере движения, например в жесте сидящей спиной обнаженной фигуры. Синхронны ли движения и реакции разных фигур в картине — безразлично. Зато мы видим, что Иисус медленно спускается с горы, что Иоанн — будущий апостол — стремительно двинулся вперед.
Алпатов сохраняет традиционное представление о композиции классической картины, как об изображении одного „говорящего» мгновения. Он пишет: „Иванов расширил временные рамки, так как представленное в картине мгновение является итогом того, что происходило в предшествующее время».
А происходило, по его мнению, вот что. „В сопровождении толпы и учеников Иоанн двигался из далекого города по направлению к Иордану, но, достигнув берега, обернулся назад, за ним оказались его ученики, перед ним толпа людей, поодаль от нее Мессия. Исходя из этого замысла, Иванов не стал расставлять фигуры согласно каким-либо предвзятым представлениям о красоте и гармонии. Он стремился передать в картине не весь ход действия, но лишь кульминационный момент, при этом таким образом, чтобы в нем заключен был итог предшествующего движения».
Но о предшествующем движении мы узнаем лишь по признакам (опосредованно), и здесь надо взвесить все „за» и „против», взяв их из текста картины, а не из общеидейных концепций. Едва ли время картины Иванова можно выстроить в такую временную ленту, которую нарисовал Алпатов. Этому противоречит группа первого плана. Сидящие и стоящие фигуры этой группы уже совершили омовение.
А это потребовало времени. И если Иоанн Креститель пришел на берег Иордана в сопровождении толпы, то какой толпы? Группы иудеев уже ранее расположившейся у воды? Он не мог прийти во главе шествия, изображенного на втором плане картины, не переступив через фигуры, сидящие в тени дерева между ним и лентой шествия. Эти фигуры составляют единое кольцо вокруг Иоанна, единое вместе с фигурами одевающихся. Среди сидящих в тени — старик, которому трудно подняться. Ему помогает юноша, оглянувшийся на Мессию. Ясно, что старик и другие иудеи, сидящие в тени, пришли не в той толпе, что спускается с горы. Они пришли, как и одевающиеся, раньше. По схеме Алпатова Иоанн Креститель шел в сопровождении толпы и, когда повернулся, шедшие вместе с ним ученики оказались (выстроились?) за его спиной. И здесь — пространственный и временной разрыв не позволяет объединить группу учеников с шествием второго плана. Несомненно, Предтеча проповедовал и крестил, находясь среди учеников, кающихся и просто совершающих омовение и пришедших на берег Иордана раньше. А новая толпа подходила. И, увидев Иисуса, спускающегося одиноко с горы, Иоанн указал на него толпе совершавших омовение как на Мессию. Указывая на Иисуса как на Мессию, Иоанн говорит, что он ранее видел знамение, когда крестил Иисуса: отверзлось небо и святой дух снизошел на Иисуса в виде голубя. Акт крещения Иисуса был уже в прошлом. Иванов, конечно, читал Евангелие внимательнее, чем мы. И хотя Алпатов прав, говоря, что картина Иванова не иллюстрация к евангельскому тексту, все же можно утверждать, что Иванов опирался в своей композиции на текст Евангелия от Иоанна, где нет описания крещения Христа, зато дважды рассказано о „Явлении Мессии».
Великие трудности пришлось преодолеть Александру Иванову, чтобы создать в многофигурной композиции с разными внешними действиями в разноликой толпе варианты отклика на слово Иоанна. Разнообразие действий тянуло за собой сложность пространственного строя, многоплановость, необходимость создать богатые ходы в глубину пространства. За этим в качестве логического завершения последовали необычная растянутость расстояния между главными фигурами, растянутость на два плана, и разная обращенность второстепенных фигур, обращенность либо к Иоанну, либо к Мессии, либо внутрь себя (внутренний диалог со словами Иоанна, составляющими зачин действия).
Во многих картинах с массовыми сценами художнику приходится преодолевать аналогичные трудности, если в толковании сюжета надо отказаться от единства внешнего действия и создать единство отклика. К сожалению, наши художники часто не видят этих трудностей, ограничиваясь в расстановке фигур внешним единством (цветовым, связью силуэтов), не будучи в силах справиться с единством и разнообразием общения. Люди стоят (чаще именно стоят), сидят, идут, но что они значат друг для друга, остается пустой загадкой.
Александр Иванов изучал композиционную логику „Тайной вечери» Леонардо да Винчи.
Построение Леонардо можно считать прототипом композиций, реализующих в положениях фигур, движениях и жестах единство отклика. Это своего рода формула, отступления от которой должны нести специальную смысловую нагрузку. Логично положение в центре картины Христа, произносящего известные слова (зачин). Логично разделение апостолов на группы по три слева и справа. Логично (хотя и для трапезы неудобно), что все участники трапезы находятся по одну сторону длинного стола. Это неудобно и для беседы, но удобно для изображения реакции участников трапезы, для изображения всех вариантов отклика. Логично, что ближние к Иисусу группы теснее связаны с ним жестами, жмутся к центру, крайние же относительно изолированы. В двух ближних группах — наибольшее богатство и сила движений, наибольший эмоциональный потенциал отклика. В двух крайних — затухание волны отклика. Отклик переходит в беседу внутри групп.
Представим себе трапезу, расположенную кольцом вокруг стола, как это сделал Тинторетто в варианте „Тайной вечери» в Сан Тро-вазо. Мотив отклика на слова Христа об измене лежит также и в основе этой композиции. Но для того, чтобы выделить фигуру Христа и его говорящие руки, пришлось пригнуть передние фигуры и разбросать остальные в резких движениях, выбрать высокий горизонт. Реакция половины фигур выражена лишь в позах и жестах. Внутренняя сторона отклика (внутреннее действие) читается по смыслу общей ситуации и не создает столь ясных индивидуальных характеристик апостолов, как у Леонардо.
В картине Леонардо один композиционный центр. В нем зачин действия и смысловой узел. Это почти математика.
Если сравнить схему композиции Леонардо со схемой кольца, можно будет сказать, что кольцо у Леонардо разомкнуто и открылась вся его внутренняя поверхность.
Единство отклика часто реализовалось в кольцевом расположении фигур. Например, кольцо фигур, замкнутое на главной фигуре, лежит в основе построения сюжета на картине Веласкеса „Кузница Вулкана» (Прадо). Кольцо фигур построено вокруг наковальни в интерьере современной художнику кузницы. Слева — в профиль -фигура Аполлона, сообщающего Вулкану ошеломляющую весть о любви Венеры и Марса. Остальные участники сцены прервали работу и, стоя в разных позах, слушают рассказ Аполлона. Фигура Вулкана (кузнец, которому предназначена весть) образует композиционный центр. В этом месте кольцо разомкнуто. Фигура Вулкана открыта и дана в фас, чтобы показать зрителю реакцию супруга Венеры на ее измену. Здесь — между Аполлоном и Вулканом завязан и смысловой узел. Реакция помощников Вулкана в остальной части холста развивается в диапазоне „изумление — любопытство». Процесс ковки -внешнее действие — прерван. Но каждый из участников сцены застигнут вестью за своим делом. Вулкан еще держит на наковальне раскаленную деталь. Два ближних к наковальне помощника (по преданию это циклопы) опустили молоты. Они ковали. Циклоп справа еще склонился над панцирем, стараясь откусить клещами кусок толстой проволоки. Циклоп в глубине — раздувает горн. Варианты отклика даны в вариантах прерванного внешнего действия (ковки).
Множество композиций разного времени показывает, что кольцевое построение, если его не понимать в чисто геометрическом смысле, — удобная внешняя форма для связи фигур единством отклика и — более широко — единством внутреннего действия.
Сюжет картины Репина „Не ждали» построен в классической форме кольца. Композиционным центром и смысловым узлом картины служит фигура ссыльного. Кольцо разомкнуто между фигурой ссыльного и фигурой матери, чтобы выделить ссыльного. Каждый участник сцены был занят своим делом в общем сплошном, обыденном ходе жизни небогатой семьи. И внезапное появление ссыльного породило многоголосую волну отклика.
Кольцевое построение фигур — наиболее ясная форма, обеспечивающая единство действия. Ее трудность — в необходимости так разомкнуть кольцо, чтобы выделить главного героя сцены. Широкая разомкнутость построения, как у Леонардо, ослабляет связи с удаленными группами и заставляет сообщать каждой такой группе ясное толкование. Напротив, замкнутость кольца заставляет поместить некоторые фигуры, например фигуру матери в картине Репина, вполоборота или спиной к зрителю и искать ее отклик только в позе и движении по смыслу ситуации.
Главный герой может быть помещен и внутри кольца. Но в этом случае труднее реализовать мотив отклика, сильнее акцентируется единство внешнего действия. Отсутствие смыслового композиционного узла в кольце превращает построение в хоровод (вариант шествия).
В мотивах отклика на событие, между фигурой — носителем зачина и остальными фигурами сохраняется известная дистанция, как между основным источником звука и источниками эха от него. В вариантах единства внешнего действия фигура героя и взаимодействующие с ней фигуры связаны теснее.
В картине Риберы „Казнь св. Варфоломея» (Прадо) герой изображен в центре плотного кольца палачей лицом к зрителю. Здесь кольцо разомкнуто. Палачи, вздергивающие тело, чтобы содрать кожу с Варфоломея, образуют с казнимым единый силуэт, единый туго стянутый узел борьбы (а не кольцо). У палачей выражены только напряжение мышц, динамика движений. Лица скрыты. Композиционный центр — запрокинутая голова страдающего и сопротивляющегося Варфоломея. В конвульсиях и лице казнимого — все напряжение внутреннего действия.
Мотив „отклика» требует расстояния, раздельности фигур. Поэтому толпа зрителей (свидетелей казни) удалена.
Итак, форма круга (кольца) — удобная форма расположения фигур для создания единства действия в многофигурной композиции. Но это не только удобная, красивая, классическая внешняя форма расстановки фигур. Выделяя ее как канон, не обращали внимания на связь этой формы с характером действия как внутреннего действия, с толкованием сюжета. У изобразительного толкования сюжета, построенного по схеме кольца, свои трудности. Где разомкнуть кольцо, чтобы показать главную фигуру? Как повернуть фигуры, чтобы выразить смысл действия и открыть их зрителю? Может быть, построить кольцо с высокой точки зрения, чтобы фигуры не закрывали друг друга, как это сделал Тинторетто в своей „Тайной вечере» (Сан Тровазо), но с этим связано крайнее беспокойство сцены и развернутость плоскости пола (и другой смысл!). Может быть, поднять главную фигуру вверх, на трон, как это сделал Караваджо в „Мадонне с четками» (Вена)? Или создать винтовую (вихревую) композицию, как в „Воскресении» Эль Греко? Или, наконец, спокойно разомкнуть кольцо, открыв этим приемом главного героя.
Замкнуть, сжать многофигурную сцену в прямоугольнике холста -задача в известном смысле противоположная задаче выразить сцену в одной фигуре. Но обе задачи вызваны к жизни специфическими изобразительными ограничениями.
Наряду с кольцом действия следует назвать другую форму построения сюжета, обеспечивающую единство действия в картине. Это построение действия по типу расположенных слева и справа от главной фигуры подчиненных ей групп. Условно мы называем эту схему схемой триптиха. Такую форму расположения фигурных групп можно сравнить с архитектурным единством главного здания и его крыльев. Главное здание — это главное действие или главная фигура. Крылья — это действия или группы, выступающие вперед или уходящие в глубину от главных фигур, или фронтальные, но симметрично подчиненные центру.
„Рождение Венеры» Боттичелли (Уффици) — не триптих, но композиция, построенная „по типу триптиха». В центре — главная фигура, справа и слева — устремленные к ней фигуры, развивающие рассказ о событии: главная часть и замыкающие композицию крылья. В центре картины только что рожденная морем и стоящая на морской раковине Венера (она рождена морем, вышла из морской пены, аллегорический атрибут — раковина). Слева — летящие к ней над морем и сеющие цветы зефиры. Справа, симметрично, направляющаяся к ней из рощи нимфа. Она держит розовый плащ, чтобы накинуть его на Венеру. Боковые профильные фигуры устремлены к главной, стоящей лицом к зрителю. Центр композиции — носитель смыслового узла. Рожденная морем богиня любви ступит на землю и уйдет в тень рощи. Будущее читается по смыслу построения как движение богини слева направо. А видимое движение — это движение боковых фигур слева и справа к главной: полет над морем и шествие по земле. Две разных среды — море и роща (земля) — дополняют смысл рассказа. В подразумеваемом времени движение разомкнуто. В изображенном движении — замкнуто. Фигуры расположены здесь в одной фронтальной плоскости и вписываются в вытянутый овал. Перед нами снова образец ясной композиционной логики.
Но фронтальное построение крыльев композиции — только вариант построения, объединяющего сцену в единстве главного действия и его „крыльев». Тот же Боттичелли в раннем варианте „Поклонения волхвов» (Уффици) построил сюжет сложнее, выдвинув крылья композиции вперед. Здесь главные фигуры удалены в глубину и подняты над толпой (типичный прием для темы „Поклонения»). Крылья композиции слева и справа, выходящие на передний план и замыкающие доску, напоминают колоннады, идущие вперед от главного здания. Фигуры волхвов, подносящих дары, устремлены к центральным фигурам. Они стоят ближе к центру. Фигуры, стоящие дальше, лишены активных движений. Общее действие из фазы активного действия переходит здесь в фазу отклика. Крайние фигуры, замыкающие крылья, образуют группы свидетелей, лишь присутствующих при поклонении. Волны действия, направленные к центру, здесь успокаиваются, и этим обозначается замкнутость композиции. Сжатие действия не противоречит, однако, подразумеваемому расширению толпы, подсказанному пересеченными рамой фигурами слева. Не противоречит оно и расширению времени. Передает свой дар Марии лишь один коленопреклоненный и поднявшийся на вторую ступеньку „король». Но два других — справа — уже опустились на колени, стоят в позах дарения. Процесс дарения развивается во времени, но, разумеется, без метрики длительностей и без полной определенности порядка фаз.
Тот же тип построения сюжета с выраженным единством действия еще нагляднее реализован в другом (позднем) варианте „Поклонения волхвов» (Вашингтон). На этой доске центральная группа помещена в глубине ренессансной галереи. Глубина пространства подчеркивается сильным перспективным эффектом архитектуры. Фигуры коленопреклоненных и стоящих дарителей продолжают перспективу галереи слева и справа, вплоть до переднего плана. Ряды фигур, образуя крылья композиции, направлены к центральной группе в едином действии. А на дальнем плане слева и справа — толпы приближающихся всадников и пешеходов, еще не участвующих в поклонении, отдаленных от главного действия. Их можно было бы условно назвать свидетелями. Мотив „свидетелей» — характерный мотив композиций, располагающих действие около главных фигур в форме устремленных к центру крыльев. Он превращает эпизод в событие, достойное запечатления.
Я не думаю, что схема „триптиха» жестко связана с темой „поклонения» и ее вариантами. Поклонение строилось и в виде фронтального шествия к объекту поклонения, расположенному у края картины. Можно напомнить картину Тинторетто в Венецианской Академии „Мадонна с тремя казначеями». В виде шествия не раз строилось и „Поклонение волхвов», для чего имелось к тому же основание в евангельской легенде. Сюжет „Поклонения волхвов» решался и посредством кольцевого расположения фигур.
Вообще между отдельным сюжетом и его изобразительным изложением нет однозначного соответствия. Сюжет может быть даже в кажущемся противоречии с формой его изобразительного изложения. Тогда и возникают вопросы смыслового толкования композиции. Почему так? Какой в этом смысл?
А за выбранной формой сюжетного построения следуют и пространственный строй, и развитие времени, и плоскостные факторы, линейные и цветовые ритмы, контрасты и аналогии, акценты.
Крылья в приведенных картинах Боттичелли строят пространство, создавая мощные ходы в глубину. Характер пространства, так же как и форма сюжетного построения, становится изобразительным толкованием сюжета. И, вероятно, нередко мощное построение пространства, определяющее замысел художника, определяет и характер расположения фигурных групп, их взаимодействие, их связь в единстве действия. Можно ли еще больше углубить пространство, поместив главную фигуру далеко в глубине и показав развитие и вариации единого действия в крыльях композиции, вытянутых вперед до передней фронтальной плоскости? Такую пространственную гиперболу мы видим в картине Тинторетто „Брак в Кане Галилейской» (Венеция, церковь Санта Мария делла Салюте).
Сцена помещена внутри вытянутого в глубину огромного зала. Длинный стол повторяет перспективу окон и кассетированного потолка. По сторонам стола — множество фигур в общем действии, не связанном открыто с фигурой Христа, сидящего у торца стола в самой глубине зала. Слуги на переднем плане наливают из сосудов воду, превращенную Иисусом в вино. Зачин действия — слова Иисуса -удален в глубину пространства. Результат его слов и само действие свершается на первом плане. Огромное узкое пространство, ведущее к главной фигуре, и длинные ряды участников пира строят пространство и динамику композиции. Создается общая атмосфера ожидания чуда.
До сих пор рассматривались образцы композиций, связывающие фигуры единством действия — внешнего или внутреннего — в замкнутой группе. Если иметь в виду движение всей группы — это статические композиции, как бы ни были насыщены движениями и внутренней динамикой отдельные группы и фигуры.
Противопоставим единству действия в замкнутой группе динамическое или, лучше сказать, кинетическое единство действия в движущейся группе, выходящей иногда за пределы холста. Это — шествия, столкновения групп, битвы, часто двухполюсные композиции.
В средней части триптиха Мантеньи — „Поклонение волхвов» i (Уффици) — объединено множество фигур в ленте шествия. Евангельский сюжет содержит рассказ, во-первых, о путешествии волхвов по звезде (звезда шла впереди и остановилась над местом рождения Иисуса) и, во-вторых, о принесении ему даров — золота, ладана и смирны. Можно было выбрать для картины или путешествие волхвов по звезде или акт дарения (поклонения). Мантенья объединил эти два действия. К гроту с Марией и младенцем движется слева сверху длинная многокрасочная лента шествия. По традиции волхвов было всего три. И композиция могла бы быть не такой массовой, как у Мантеньи. Но тогда отпадал бы мотив путешествия по звезде. На картине Мантеньи лишь первый коленопреклоненный волхв совершает акт дарения. Второй подходит с дарами, третий опускается на колени несколько поодаль, а дальше развивается лента многоцветного шествия. Она извивается, определяя большое пространство пейзажа. Медленно двигаясь слева вниз направо, шествие останавливается у грота в скале, в самом низу доски. В пространстве — шествие уходит вдаль за край скалы. На плоскости — композиция замкнута. Лента шествия начинает круг, который затем замыкается слева выступом скалы, звездой, летящим ангелом.
В картине нельзя было объединить две темы — „путешествие по звезде» и „дарение» — иначе, как посредством создания толпы, движущейся издали. А за этим последовало „пейзажное» решение доски. В „Поклонениях» Боттичелли действие сжато в статическую схему и развивается от акта дарения до отклика (внутреннего соучастия) и дальше — до простого присутствия свидетелей. У Мантеньи действие развернуто как пестрое шествие, останавливающееся у входа в пещеру, над которой остановилась звезда. Шествие завершается дарением. А по евангельскому тексту дарение происходит в доме: „И вошедши в дом, увидели Младенца с Марией, Матерью Его и падши поклонились Ему; и открывши сокровища свои, принесли Ему дары: золото, ладан и смирну» (От Матфея, гл. 2, 9-11). Как существенно изобразительное толкование (построение) сюжета и как по-разному оно меняет смысл!
Диагональное шествие толпы слева вниз направо из пыльной глубины по открытой дороге, шествие на зрителя — выбрал Репин для картины „Крестный ход в Курской губернии». Конечно, в данном случае сам сюжет это — шествие. Но шествие может быть проходящим фронтально через картинное поле, как у Дейнеки в его „Обороне Петрограда». Диагональным и останавливающимся, как у Мантеньи в „Поклонении» или у Курбе в „Похоронах в Орнане».
В „Крестном ходе» Репина — шествие неумолимо и тяжело надвигается на зрителя, занимая на первом плане все картинное поле, и это, очевидно, имеет смысл. Кроме того, шествие разделено на два крыла, правое — мощное, сплошное, с иконой под балдахином и колеблющимися хоругвями, и левое, более редкое, со странницами, бедным людом и ковыляющим впереди горбуном. Два крыла разделяют фигуры конных жандармов, отгоняющих левую толпу шествия. Разный смысл шествия для двух разных крыльев, но единое непреодолимое движение, объединяющее людей с подчеркнуто выраженными социальными различиями. Социальный конфликт — в общем действии.
Перед нами разные судьбы, встретившиеся на картине в едином движении, в одном потоке времени и в одном пространстве.
В сложных динамических композициях второй половины XIX века, старавшихся выдержать принцип естественности, иногда сочетаются разные формы единства действия. Многофигурное построение можно толковать тогда как шествие и одновременно как построение по типу единой направленности действия к главной фигуре — центральной части и двух крыльев картинного здания, шествия, замкнутого в полукольцо и т.п.
Картину Сурикова „Боярыня Морозова» можно рассматривать и как шествие. Хотя движутся, рассекая толпу, лишь сани с боярыней -раскольницей, возницей да княжной Урусовой справа; бежит слева мальчик, догоняя сани. Но вся правая, главная, неподвижная часть толпы жестами и взорами провожает боярыню. Начиная с жеста и взора юродивого, все повороты фигур, все наклоны голов воспринимаются как выражение следования движению саней. Можно поэтому видеть в композиции этой сложной картины и объединение персонажей по типу отклика на увоз боярыни, на ее фанатическое восклицание и жест двуперстия. Правое крыло композиции — отклик сочувствия, левое — с фигурами смеющихся попиков — отклик злорадства. Но волна отклика в правом крыле не затухает по мере удаления от боярыни.
Волна отклика втягивает и идущих и стоящих в общее движение, сообщает всем один внутренний порыв. Фигуры любопытных свидетелей (мальчик у решетки окна, фигуры вдали слева) введены лишь для контраста с выражением единой фанатической воли.
Суриков не излагал определенный текст. Сам выбор конкретного сюжета был его „сочинением». Но, взяв в качестве общей темы историческое событие и опираясь на скупые исторические источники, он все же выбрал одну из множества возможных сцен и дал ей одно из множества возможных изобразительных толкований.
Не один вариант сюжетного построения был и перед внутренним взором А.Дейнеки, когда он задумывал свою „Оборону Севастополя».
Для того чтобы выразить всю „динамику сверхнапряженного боя», Дейнека создает как центр и смысловой узел композиции фигуру моряка, бросающего двумя руками связку гранат. Исключительна сила движения, гиперболичен масштаб этой фигуры, как будто вырывающейся из холста. Связка гранат касается верхнего левого угла картины, правая нога моряка у ее нижнего края. Голова почти касается рамы. Все остальные фигуры образуют крылья вокруг этой главной фигуры: короткое левое, с поднимающимися от моря фигурами, и растянутое на всю правую половину холста правое крыло с фигурами атакующих моряков — мотив открытого столкновения. Толпа фашистов занимает немного места у правого края картины. Ее размеры читаются по плотности, массивности и по таким признакам, как выходящие из-за рамы штыки на переднем плане: масса фашистов вынесена за пределы холста, а немногочисленная группа атакующих моряков занимает всю ширину картины. Белый диагонально расположенный силуэт впереди и белые расходящиеся от него крылья — сзади. Это напоминает движение клина, врезающегося в тугую среду.
Аналогично построена картина Делакруа „Свобода на баррикадах» (Лувр). Там фигура в фригийском колпачке, олицетворяющая свободную Францию, вырывается вперед, а за ней слева и справа как будто снизу поднимаются фигуры восставших. Боевой клин направлен вперед и сопротивляющаяся среда лишь подразумевается. Вероятно, и в картине Дейнеки единство действия можно толковать как стремительное движение моряков во главе с вожаком, символизирующим мощь и победу, а наступление фашистов как среду действия -вместе с развалинами, падающим самолетом, багровым небом.
Попробуем взять только правую часть картины — это типичная батальная сцена в типичном изложении (если не обращать внимания на прием расширения пространства, посредством выходящих из-за рамы штыков). Попытаемся ограничить картину левой половиной. В этой однофигурной композиции уже выражено все. Остается извлечь из тезиса его следствия, шире развернуть его предпосылки.
Композиция Дейнеки покоряет образной логикой построения сюжета. Но это не логика расположения фигур для показа внутреннего действия. Это логика построения движений для показа своеобразного пафоса действий.
Выше намечены лишь некоторые схемы построения по типу „шествия» и открытого столкновения — „битвы». Возможны, как было сказано, фронтальные шествия (например, „Бегство в Египет» Джотто), диагональные и замкнутые (хороводы). И каждый тип построения действия служит основой для толкования (изложения) сюжета.
Возможны клинообразные построения битв, с выступающей главной фигурой, и построения по схеме „стенка на стенку».
Данная глава не имела целью изложить исчерпывающую систематику форм сюжетного построения. Область этих форм, как и любых форм и сюжетов — не замкнутое множество. Каждое время и каждая яркая творческая индивидуальность вносят в это множество новые варианты. Неизменны лишь принципы, вытекающие из общих особенностей и специфических ограничений изобразительного изложения сюжета. Необходимость использования связей фигуры со средой действия, необходимость выразить „общение» фигур, необходимость создать на холсте единство действия или сквозное действие, связанное общей идеей, а вместе с тем выбор того, что сосредоточено в картинном поле, и того, что вынесено за его пределы (того, что подразумевается).
Изложеное выше побуждает обратиться еще к одному вопросу.
КОМПОЗИЦИЯ И СЛОВО
Живопись часто сближают с музыкой, обращая внимание на такие стороны ее, как цвет, линия. С этой точки зрения цветовая и линейная целостность может стать основным законом композиции.
Сближают живопись и с архитектурой, выделяя ее внешнюю по-строенность, объединение в простые фигуры, симметрию, ритм, объемы. И это можно возвести в систему основных законов композиции.
Говорят и о поэтичности живописи, имея в виду главным образом ее эмоциональность, но не композицию. Я думаю, что самую глубокую основу композиции, во всяком случае, композиции сюжетной картины, составляет не внешняя гармония, не „мелос», и не внешняя построенность, равновесие, архитектоника, а „логос» — „слово», „рассказ» (изобразительное единство рассказа). Значение слова для композиции картины сейчас часто отрицают, стремясь охранять специфику живописи, а ее не надо охранять, она сама дана в картинах.
Картину, содержащую рассказ, который можно на основании изобразительного изложения передать словом, часто презрительно называют „литературщиной». В литературщине упорно обвиняют передвижников. Здесь, по-моему, глубокое недоразумение, и я присоединяюсь к словам Н. А. Дмитриевой, которая в своей книге „Изображение и слово» правильно замечает: „Уместно пересмотреть предрассудочные суждения о якобы „литературной» сущности картин передвижников, о „литературщине»… „Не ждали» Репина ничуть не более литературное произведение, чем „Возвращение блудного сына» Рембрандта»*. Построение картины как рассказа — общая глубокая традиция реалистической сюжетной картины. Литературен Репин, но литературна, то есть содержит более или менее развернутый, переводимый на слова рассказ, и картина А. Иванова „Явление Мессии». Вся живопись до конца XIX века, в том числе и русская икона, литературна. Последняя (икона) литературна вдвойне, так как она переводит строго определенный канонический текст на канонические (в правилах), определенные рисунок, расположение фигур и цвет, допуская лишь ограниченные варианты.
Для характеристики композиционных особенностей сюжетной картины вопрос о связи изображения и слова — вопрос первостепенного значения. Если всякая картина есть изложение сюжета, в какой-то степени переводимого на слова, то есть рассказ, то по отношению к сюжетным картинам чаще всего можно сказать, что в них рассказ развернут. Развернутость сюжетного рассказа — композиционная особенность, в частности, и сюжетных картин передвижников.
Бывают случаи в живописи, когда тема, сюжет, рассказ только обозначены. Часто это прекрасные произведения. В них текст переходит в подтекст, вообще говоря, в невысказанность, часто в нарочито темную мысль. Возникает многозначный образ. Для сюжетной картины специфичен развернутый рассказ. И здесь нет разрушения специфики живописи, если изобразительное толкование несет в себе достаточное богатство специфических средств живописи. Просто словесно-сюжетная форма произведения, определяющая образ изнутри, развернута в такой картине шире. Если же она развернута шире, то и внешние средства соответствующим образом перестраиваются и подчиняются широкому развитию рассказа.
Конечно, содержание картины — не просто только сюжет. Это замысел и весь образ как единство наглядного выражения и заложенного в нем смысла.
Итак, картина и слово, а не картина и ее отвлеченная музыка.
Открытая связь картины со словом заключается уже в ее названии. Часто презрительно относятся к названию картины: говорят, что значит для живописного образа название? Разве не все видно и без названия? А между тем не определяло ли название творческий процесс художника, не было ли оно прямо связано с идеей?
Большинство картин имеют название, хотя часто эти названия случайны. Часто они даже не авторские, часто они определяются только жанром и формой. Например, „Пейзаж», „Натюрморт», „Композиция №2″ и т.д. Часто эти названия и содержательны, но случайны по отношению к данной картине.
Нас интересуют картины, названия которых дают нить для толкования сюжета, ключ, позволяющий нам открыть глубину образа.
Можно выделить несколько типов названий. Скажем, „Не ждали». Читаем подпись, и сейчас же возникает вопрос-кого не ждали? И уже это — ключ к пониманию композиции: мы выделяем фигуру вошедшего ссыльного. Это название ситуации и первый намек на социальную идею („Вошел ссыльный в свою семью»).
„Неравный брак» тоже название ситуации, сразу заставляющее обратить внимание на неестественное объединение богатой старости и покорной молодости, делающее понятным и поведение молодого человека сзади и остальных персонажей. Вспомните „Таинство брака» Дж.-М. Креспи (Дрезден, Картинная галерея) из его серии „Таинств». Само название „таинство» радикально меняет смысл аналогичного сюжета. У Креспи — разоблачение „таинства», у В.Пукирева — социальная драма.
В других названиях — ключ к толкованию не так ясен, но он все же есть. Когда мы видим картину „Боярыня Морозова» и читаем название, мы понимаем, что перед нами не просто сцена раскола. Названия „Боярыня Морозова» и „Сцена раскола» — это были бы названия разных картин. Именно сосредоточение протеста в образе боярыни, в образе фанатической ревнительницы старой веры, с которой тесно связана толпа сторонников, оправдывает название картины. Это тоже ключ к ее пониманию и узел композиции.
Названо: „Утро стрелецкой казни» — ведь не просто „Стрелецкая казнь», а „Утро…». В этом есть определенная настроенность. „Утро» — это начало.
Казалось бы название „Царь Петр и царевич Алексей» совершенно формально. Картину как изображение допроса можно было бы назвать и иначе. Но не картину Ге. На картине Ге перед нами диалог характеров. И поэтому у картины два композиционных центра — не только Петр, но и Алексей. Ни фигура Алексея не составляет узла композиции, ни фигура Петра. Композиционный узел — диалог, связь этих двух фигур, если хотите — пространство между ними, его величина — выразитель психологического расстояния.
Даже в названии пейзажей мы часто видим прямое указание на содержание и настроенность. Например, „Владимирка» Левитана. Для человека, знающего русскую историю, это существенное название. Вы чувствуете, что перед вами не просто пустынная дорога, а дорога „скорбная» — „история», „судьба». „Вечерний звон» — настроенность, выраженная уже в названии, наполняет звуковыми образами и живопись.
Даже в картине „У омута» название только кажется простым. Этот пейзаж можно было бы назвать и „пейзаж» и „вечер» или как-нибудь еще. Почему это именно омут? Название „У омута» имеет-таки смысл: глубина, таинственная глубина, черная глубина. Это и определяет эмоциональный тон картины, выраженный в живописи. Таким образом, слово-название как первый ключ композиции, часто прямо связанный с ее основой, является вместе и ключом к пониманию и скрытым импульсом для создания картины. Замечу, что, в частности, передвижникам чужда случайная связь слова-названия и картины. Слово-название — и ключ для понимания, и зерно для развития композиции. Найти название неназванной картины — это значит найти ключ к пониманию ее смысла.
Но, конечно, связь со словом в композиции не ограничивается этим, казалось бы, внешним указанием.
Однако почему же внешним? Картина есть целостность, из которой так же невозможно исключить существенное название, как, скажем, историческую обстановку действия.
Есть разница между двумя творческими методами. В одном случае мы встречаемся с каким-то „мотивом», ярким по цвету или форме, по линейному строю, наносим его на холст и лишь затем стремимся развить содержательность возникающего рассказа. И случай, когда художник заранее определил для себя идею вещи, обозначил идею, и все остальное вырастает из скрыто или открыто названного зерна. Композиция в последнем случае развивается обычно логично и цельно.
Значительно сложнее, но также существенна скрытая структурная связь картины со словом.
Наша психика в своих высших разделах структурно определена словом. Ориентируясь в окружающем, мы выделяем и узнаем предметы. Конечно, мы их не называем при этом. Но всегда готовы назвать. Аналитической функции различения отвечает отдельность слов. Узнавание… Вот я иду и вижу — это дом; это мой дом. Я узнаю его по предметным признакам, по пространственному положению. Узнавая, я называю его, и строю „рассказ-называние». Если бы в восприятии не было скрытой структуры рассказа — все смешалось бы в хаос ощущений.
Владимир Ильич Ленин говорил о необходимости изучать проблему перехода от ощущения к мысли. Я думаю, переход этот происходит и в самом восприятии, когда мы узнаем и различаем вещи, события на структурно-словесной основе. Сама расчлененность восприятия у человека — второсигнального происхождения.
Затем вместе с аналитической функцией восприятия действует синтетическая. Это связи. В языке — это прежде всего синтаксис.
Все в нашем восприятии не только расчленено, но и связано. Все связи существенны для искусства. Сюда относятся и предметно-пространственный и причинно-следственный „синтаксис» и более широкие связи — типы повествования.
Структурная аналогия изображения и слова совершенно очевидна в сюжетной картине. Любая картина — это рассказанная картина, специфическим образом построенный текст. Тут нет и не может быть эмоциональной россыпи красок, смазанности, всегда ясно, что к чему. Вот почему мы говорили здесь о распространенном рассказе, о рассказе, который можно широко передать в слове, что, конечно, нисколько не заменит созерцания картины.
И, прежде всего, это ясная предметность живописи (предмет в условиях его незатрудненного узнавания): подлежащее, дополнение. Затем — это ясные предметные и пространственные связи. Все прочно стоит на своих местах: одно за другим, одно — на другом (предлоги и их управление), стоит или действует, движется (сказуемое).
Именно прочность предметно-пространственного синтаксиса долгое время занимала Сурикова в одном эпизоде работы над „Боярыней Морозовой». По его собственным словам, он долго мучился над передачей движения саней по рыхлому снегу. Повторим этот композиционный эпизод в новом контексте.
Мы ясно видим, что сани движутся. А почему они движутся? Для этого созданы предметные признаки движения. Полозья саней уже проделали путь по рыхлому снегу. И достаточную величину этого пути Суриков долго искал, чтобы сани шли, но еще не ушли из пространственного центра композиции.
Я не говорю уже о перспективе саней, которая усиливает впечатление движения, о направленности фигур справа вслед уходящим саням. (Фигуры повернуты так, как будто сани прошли уже дальше.) Это — предметно-пространственные связи. В них кроются причинно-следственные, временные и смысловые связи. У боярыни Морозовой с трудом, с усилием поднята рука: на ней тяжелая цепь, и вместе с тем рука выпрямлена как знак непреклонности.
Вы видите двуперстие — символ, который повторяет юродивый. Опять — связь. Боярыня Морозова как бы говорит: меня увозят, но я остаюсь с вами, и символ двуперстия тоже с вами.
Можно и дальше развивать рассказ. Связь остается в скрюченных пальцах юродивого, в грустном наклоне головы девушки. Во всем вы видите связь отдельных элементов изображения в общий узел. Можно сказать, что перед нами абсолютно связная и абсолютно расчлененная речь.
Можно было бы выделить много других деталей этой картины с точки зрения связности отдельных ее элементов. Сказанное о Сурикове относится в той или иной мере ко всякой сюжетной картине. Это характер ее ткани с новой, не замеченной до сих пор теоретиками стороны.
Наметим еще одну тему.
Вероятно, в живописи можно различать несколько типов рассказа. Я не собираюсь давать исчерпывающее перечисление типов рассказа, но некоторые из них хочется выделить. Это прежде всего тип рассказа-повествования, тип фабульного рассказа. Примером такого рассказа-повествования может служить та же „Боярыня Морозова». В картине есть фабула, распространенная во времени: в прошлое и в будущее. Итак, есть рассказ-повествование. Но есть и рассказ-характеристика, есть рассказ-описание, есть рассказ-стихотворение, построенный на „лирических», „поэтических» связях.
И как деградация рассказа выступает „аморфный текст», нарочитая бессвязность или запутанность изображения.
Для сюжетных композиций характерен фабульный рассказ. Примером и здесь могут служить сюжетные картины передвижников.
Композицию картины можно изучать, рассматривая значение для целостности образа таких общих для всех искусств форм, как контраст, аналогия, повторы, нарастания, выделение главного, чередования, принцип равновесия, динамика и статика. Эти формы композиции существенны, но они существенны и для других искусств. Контрасты, аналогии, повторы — основные формы музыкальной композиции, они же лежат в основе композиции многих архитектурных памятников, они — в и поэзии и в танце.
Очень убедительна мысль Е.Кибрика, что контраст — основной принцип композиции картины и графического листа. Наряду с аналогиями, усиливающими действие контрастов, именно контрасты чаще всего скрепляют целое. Но контрасты — в чем, в каких элементах и факторах структуры? Б.Иогансон в анализе композиции картины Веласкеса „Сдача Бреды» говорит также о законах контраста, а именно о контрастах соседних светлых и темных пятен, расчленяющих и связывающих эту композицию. В свое время и колорит определяли как систему согласованных между собою контрастов. Но ведь надо говорить и о пространственном контрасте, и о контрасте пластических форм, и о сюжетном контрасте, и о контрастах в изображении скорости движения, времени.
Рассматривать значение общих композиционных форм в специфических задачах композиции картины, конечно, возможный путь. Тогда оглавление выглядело бы примерно так: 1) способы выделения главного; 2)контраст и аналогия; 3)повторы и нарастания; ^гармония и равновесие и т. д.
Я выбрал другой путь, распределив проблемы композиции картины по задачам, которые приходится решать художнику исходя из специфики его творчества, соответственно — по факторам или системам структуры целого, начиная с распределения изображения на плоскости и кончая построением сюжета.
Преимущества такого пути заключаются в возможности установить сквозную связь самых разных форм произведения, будь то объединение и распределение частей на плоскости или структура образного пространства или формы движения, признаки времени — со смыслом целого. Преимущества заключаются и в тесной связи с современной художественной практикой и современными дискуссиями о значении отдельных систем структуры, с борьбой против попыток обеднить структуру картины, выделив одни задачи и зачеркнув другие.
Как было сказано во введении, здание картины выстраивается в своего рода иерархию факторов (систем структуры), начиная с распределения изображения на замкнутой плоскости — самого внешнего фактора — и кончая построением сюжета и связью изображения со словом на уровне понимания. Эту иерархию не следует понимать как ряд надстроек или этажей целого. Отдельные системы, переплетаясь между собой, изменяют друг друга, создавая единство стиля. Так, акцентирование плоскости отражается не только на цветовом построении (здесь я отсылаю к моей книге „Цвет в живописи»), но и на способах построения сюжета и времени, в конце концов, — на смысле целого. Сюжетно-пространственное построение по типу театральной мизансцены требует особого отношения к построению плоскости картины, цвету и времени.
В иерархии факторов не предуказана и последовательность творческого процесса. Творческий процесс капризен. Он может начинаться с заданного сюжета и увиденной художником идеи как некоторой цели. Он может начинаться с яркого цветового впечатления, с которым тут же связывается еще только в тумане сознания возникающий сюжет. Распределение изображения на плоскости, цветовой и пространственный строй могут меняться в диалектике творческого процесса, ломая уже сложившиеся, казалось бы, формы.
В иерархии нельзя видеть и предуказанной последовательности восприятия картины, будто бы начинающегося всегда на чисто зрительном уровне с рассматривания пятен и линейного строя на холсте. Проникновение в образ — не гладкий процесс с регламентированной I последовательностью, а вспышечный процесс, вырывающий светом понимания и светом красоты то те, то другие элементы — от внешних до самых глубоких.
Книга завершается указанием на роль слова в картине. Не только на связь образа с действительным или возможным названием ее, но и с более глубоким вхождением слова как бы в ее ткань.
Если во II главе говорилось о „скрытой геометрии картины», особой образной геометрии, не только выделяющей и объединяющей, но и несущей смысл, то здесь выдвинута идея о „скрытом слове», определяющем композицию изнутри. Но пусть это останется заявкой на новую тему.